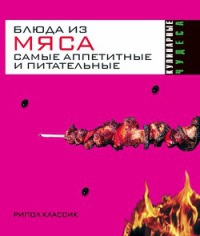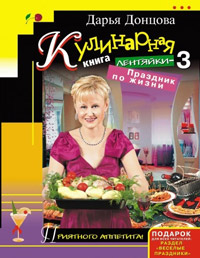Книга 100 аппетитных рассказов старого гурмана - Александр Пискунов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Душа бы почувствовала сладкий трепет и священный ужас, глаза с наслаждением окунулись в страшно прекрасных пропастях… A propos — в Турине очень хорошие сухари к чаю».
Зато его читатели до сих пор радуются, как вовремя забывал Гоголь о модной на то время напыщенной и вычурной поэзии и возвращался к реальной жизни, так здорово и поэтично изображаемой им в своих произведениях.
Мариэтта Шагинян вспоминает речь поэта Валерия Брюсова в Москве на торжестве, посвященном столетию со дня рождения классика.
«А Брюсов вышел на эстраду в своей чопорности «мэтра» и прочел доклад о том, каким «обжорой» был Гоголь в жизни, как он художественно любил поесть, и что именно едал, и как именно едал — со вкусом, с «чувством, с расстановкой» — в тратториях Рима, за московскими обедами у Погодина; и как вкусно, со смаком, описывал украинскую еду в своих знаменитых повестях».
Похоже, склонны мы идентифицировать художника с создаваемыми им образами. А ведь в воспоминаниях современников Гоголя очень немного строк отведено этой стороне его жизни, да и видно из них скорее обратное. Не был писатель обжорой ни в кавычках, ни без них. Да, полюбил в Италии макароны и рад был угощать ими москвичей и прочих россиян, готовя их, «как у Лепри в Риме», превращая такое событие в настоящий спектакль, в котором он сам был и режиссером и сценаристом и талантливым исполнителем. Его большой друг старик Сергей Аксаков вспоминал:
«Стоя на ногах перед миской, он засучил абшлага и с торопливостью, и в то же время с аккуратностью положил сначала множество масла и двумя соусными ложками принялся мешать макароны, потом положил соли, потом перцу и, наконец, сыр и продолжал мешать. Нельзя было без смеха и удивления смотреть на Гоголя; он так от всей души занимался этим делом, как будто оно было его любимое ремесло…»
Не очень получились у него в тот раз макароны, хотя сам он «находил их очень удачными, ел много…», зато все были оживлены, в хорошем настроении. А что касается, будто он «наедался очень часто до того, что бывал болен», по воспоминанию чиновника Л. Арнольди, то не следует забывать о слабом здоровье писателя, прожившего всего 43 года. И ел он, по воспоминаниям Павла Анненкова, в Риме отнюдь не с «чувством, с расстановкой», а быстро и жадно…
И все же он любил поесть, любил сам приготовить «вареники, галушки и другие малороссийские блюда», «в состоянии был, как Петух, толковать с поваром целый час о какой-нибудь кулебяке…» А герой писателя Петух удивительно умел наставлять с повара:
«Да чтобы к осетру обкладка, гарнир-то, гарнир-то чтобы был побогаче! Обложи его раками да поджаренной маленькой рыбкой, да проложи фаршецом из снеточков, да подбавь мелкой сечки, хренку, да груздочков, да репушки, да морковки, да бобков, да нет ли еще там какого коренья?…»
Говорить о еде, писать, рассказывать друзьям, — вот это не отнимешь у Гоголя.
«О малороссийских варениках и пампушках говорил с наслаждением и так увлекательно, что у мертвого рождался аппетит», — вспоминал Арнольди. И он же добавлял: «А между тем очень редко позволял себе такие увлечения и был в состоянии довольствоваться самой скудной пищей, и постился иногда как самый строгий отшельник».
К сожалению, болезненность, то ли психическая, то ли физическая, заставляла писателя бросаться в разные крайности и забывать о радостях жизни, одна из которых — умение оценить хороший стол, что так хорошо понимал писатель в лучшие годы своей жизни.
За обедом Дюма опять ел с большим аппетитом и все расхваливал, а от курника (пирог с яйцами и цыплятами) пришел в такое восхищение, что велел своему секретарю записать название пирога и способ его приготовления.
В своих прославившихся на весь мир романах знаменитый французский писатель Александр Дюма мало внимания уделял застолью своих героев. Сюжет в них развертывается настолько стремительно, что просто нельзя останавливаться на таких мелочах, как подробное описание блюд, которые подают на званых обедах или в придорожных тавернах. Сам же автор не только любил вкусно поесть, но и хорошо знал, как и что надо приготовить, чтобы с удовлетворением выйти из-за обеденного стола. Известно, что великий романист всю свою жизнь собирал кулинарные рецепты и пробовал созданные по ним блюда. Причем он не стеснялся готовить лично, что в то время для людей его круга было в диковинку.
Наверное, больше всего ему пришлось потрудиться на кулинарной ниве во время его путешествия на Кавказ, о чем он и рассказал в своей книге воспоминаний. Разумеется, во время его приезда в Россию он, в качестве почетного гостя, пользовался хлебосольством новых друзей и в Петербурге, и в южных степях и горах, но все же особенности тогдашних переездов на дальние расстояния вынуждали привыкшего к комфорту француза не раз самому браться за поварешку. Он не мог довольствоваться в пути только чаем, которым, по его мнению, только и обходятся русские, не требующие иной еды.
Зато в гостях у русских он восторгался почти каждым новым кушаньем и обязательно расспрашивал, какие существуют секреты его приготовления. Обилие за столом не только не смущало писателя, но приводило в восторг. Не удивительно, съесть он мог очень много без вреда для здоровья. Писательница Авдотья Панаева, к которой он зачастил на понравившиеся ему обеды, решила на некоторое время избавиться от его посещений, для чего задумала перекормить гостя.
«Я накормила его щами, пирогом с кашей и рыбой, поросенком с хреном, утками, свежепросольными огурцами, жареными грибами и сладким слоеным пирогом с вареньем и упрашивала поесть побольше».
Поначалу она обрадовалась результату: писатель после обеда почувствовал сильную жажду и «выпил много сельтерской воды с коньяком»…
Увы, избранная тактика оказалась неверной, на писателя самым благотворным образом подействовал щедрый обед.
«Через три дня Дюма явился как ни в чем не бывало… Дюма съедал по две тарелки ботвиньи с свежепросольной рыбой. Я думаю, что желудок Дюма мог бы переваривать мухоморы», — сделала вывод Панаева.
Однако писатель остался недоволен русской кухней, особенно в сравнении с французской. Позднее он написал следующие строки:
«Несчастье всякой кухни, за исключением французской, состоит в том, что они имеют вид кухни случайной. Одна только французская кухня есть нечто продуманное, научное, гармоничное. Как и всякая гармония, кухня имеет свои общие законы. Лишь варвары не знают и не пользуются нашими музыкальными законами. Но самая ужасная кухня — русская, потому что внешне она цивилизованная, а фундамент ее варварский. Русская кухня не только не настраивает в пользу блюд, но маскирует их и обезображивает. Вы думаете, что едите мясо, а оказывается, что это — рыба; вы думаете, что кушаете рыбу, а это каша или крем».
Можно согласиться с патриотично настроенным французом, что большинство народов не пользуются в своих кухнях французскими «музыкальными законами», труднее поверить, что такой опытный гастроном принял поросенка, сдобренного всего лишь хреном, за осетра, а последнего — за гречневую кашу. Скорее всего, за русскую кухню он принял ту, которая существовала в доме графа Кушелева, наверняка в подражание французской или другой заморской, и отличалась, по словам самого Дюма, тем, что «все блюда точно трава».