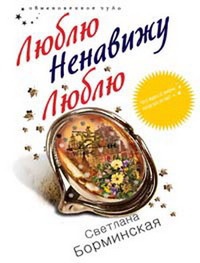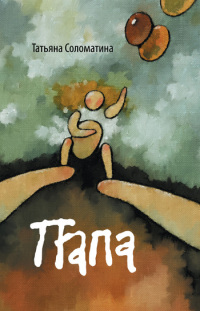Книга Горовиц и мой папа - Алексис Салатко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Соучеником Димитрия в консерватории был некий Владимир Горовиц. На старой фотографии класса, датированной 1915 годом, заметнее всех мой папа — наподобие некоторых артистов, он ухитрился заполнить собой весь экран. Стоящий слева от него однокашник — маленький, тщедушный, ушастый (уши у мальчика были как у слоненка, за что он и заслужил прозвище Лопоухий) — выглядит бледно. И уж у кого-кого, а у Анастасии сомнений не было: какой там Горовиц, какие могут быть сравнения, ее Митя первый и лучший. Вот увидите: мой Митя обставит их всех!
Много лет спустя бабушка описывала мне, как ее Митя вводил себя в состояние транса, чтобы начать общение с богом музыки. Он обрушивал на клавиши гром и метал молнии. Опять-таки по бабушкиным словам, Горовиц — жалкая мартышка, из последних сил выбиваясь, лишь бы ни в чем не уступить ее Мите, и подражая ему во всем — ни на что подобное способен не был. В те времена на втором этаже дома, принадлежавшего городским властям и стоявшего примерно на середине Алексеевской улицы, мальчики то и дело устраивали в гостиной Радзановых дуэли. Оружием становилось, разумеется, фортепиано. Они бились вовсе не до первой крови — нет, до тех пор, пока кто-то сфальшивит, а чтобы усложнить задачу и придать схватке ожесточенности, иногда смазывали клавиши хозяйственным мылом. Надо ли уточнять, что победителем в этих головокружительных состязаниях неизменно выходил мой отец?
На других фотографиях они стоят с ракетками под мышкой на перроне вокзала в Веве. Мальчики только-только сошли с поезда — их пригласили провести каникулы в Швейцарии, у отца Анастасии, того самого рисовальщика гербов.
Это весна 1916-го. Тут и Федор, и мой папа, и Лопоухий, а с ними юные русские красавицы, естественно, тоже консерваторки. Теннисные матчи, судя по всему, были забавными. Неуклюжему, совершенно не спортивному Горовицу не удавалось отбить ни одного мяча. Степной ураган за фортепиано, на корте он превращался в слабое дуновение ветерка, нетвердый в коленях, он исчезал в облаках утоптанной поначалу, но взрытой им земли, — и тогда Володю водружали на судейское кресло, где этот маленький хитрец брал реванш, выдумывая ошибки теннисистов и непрестанно свистя.
Приезжие поселились в шале прадедушки с великолепным видом на озеро Леман. Дом был битком набит всяким хламом, имеющим отношение к геральдике. Митя влюбился по уши в одну из девочек, скрипачку Ольгу, самую красивую и талантливую из девочек, но любовь его натолкнулась на непредвиденное обстоятельство: Лопоухий! Тайна тайн — этот последний явно пользовался успехом у прекрасного пола! Вот тут Володя явно преуспевал, тут его жалели, но при этом еще и холили и лелеяли. Ольга взяла Лопоухого себе под крылышко — Мите в этом сближении ради опеки виделось что-то непристойное, и мой будущий папа не упускал случая высмеять соперника. Скрипачка же неизменно кидалась на защиту малыша, а Димитрия Радзанова, уродившегося рослым красавцем, называла грубой скотиной. Крошка Горовиц посматривал на такие дела искоса и мотал на ус. Этот парень, объясняла мне бабушка, всегда был мастер оборачивать самое что ни на есть неприятное положение себе только на пользу, он-то уж всегда из воды сухим выйдет — должно быть, еврейская кровь все решает, не иначе.
На выпускном экзамене в Консерватории Горовиц, разумеется, показал себя блестящим пианистом, но все-таки не таким блестящим, как Митя, который был просто ослепителен. Быстрые, ловкие, сильные пальцы со звоном рубили горный лед клавиш и возносили юного маэстро к заоблачным гималайским вершинам 29-й сонаты Людвига ван Бетховена, известной под названием «Хаммерклавир»[2]. Еще бы — в жюри сидела Ольга! Да-а-а… в жюри сидела Ольга — стало быть, можно было ожидать худшего. Однако соревнование окончилось ex æquo[3], и бабушка по этому поводу страшно негодовала. Скандал века — так она называла итоги того памятного конкурса.
Революция положила конец золотому времечку. Братья Радзановы вступили добровольцами в Белую Гвардию. Никто их об этом никоим образом не просил, особенно моя бабушка, что не мешало ей много лет спустя рассказывать всю историю на свой лад:
— У нас не было выбора. Когда родина в опасности, не время рассуждать. Мы прислушивались только к голосу долга, мы очертя голову бросались в атаку. И если бы все надо было начать сначала, мы бы…
В то самое время, когда красные разоряли и грабили Киев, моего дедушку хватил удар. Он выздоровел, только лицо у него после пережитого осталось частично парализованным, и выражалось это главным образом в том, что он не мог согнать с губ дерзкую улыбку — невольную, но совершенно неистребимую. Когда захватчики вторглись в служебную квартиру Радзановых, дедушка дорого заплатил за эту улыбку. Ее расценили как провокацию, преступника на глазах застывшей в ужасе жены выгнали ударами прикладов на лестницу, избили, и несколько дней спустя после медленной агонии ни в чем не повинный и совершенно безобидный городской чиновник скончался. Ему было всего пятьдесят пять лет. Два его сына, объединенные равной ненавистью к коммунизму, в те дни за много верст от родного дома с последнею силой отчаянья защищали изначально проигранное дело.
Мой отец мало говорил об этом одинаково героическом и бедственном периоде своей жизни. Не знаю, к примеру, в каких арьергардных боях они с Федором, одетые в белые мундиры с малиновой опушкой, участвовали в течение двух лет. Позже, в редких разговорах на эту тему, папа только называл места, где шли сражения, и названия эти звучали загадочно: Карпова Брека[4], Галлиполи… Моя фантазия тут же и озвучивала эти странные слова грохотом взрывов, окрашивала заревом пожаров. На фотографии, сделанной в полевом госпитале, отец изображен с горсточкой меньшевиков, по ним будто дорожный каток проехал — бледные щеки запали, мундиры изодраны, они выстроились в последнее каре. И здесь тоже папа выделяется — взъерошенными волосами, осанкой человека, которого смерть не берет, сигаретой, обращенной огоньком к ладони левой руки.
Белые капитулировали, мой дедушка умер, все его добро было конфисковано, бабушка и вернувшийся домой папа отправились в Севастополь, откуда отплыли во Францию — им разрешили уехать, потому что ушлая Анастасия оставалась подданной Французской Республики. Это было в 1923-м. А Федор, к тому времени женатый, не стал покидать Киев, и годом позже его прикончил тот самый тиф, что опустошил тогда едва ли не весь новенький Советский Союз.
После трех недель изматывающего путешествия грязные, донельзя запаршивевшие, во вшах и без гроша в кармане Анастасия с Димитрием отыскали в одном из парижских пригородов дядюшку Фредди, который вместе со своими тремя ребятишками вернулся во Францию после первых же залпов «Авроры».