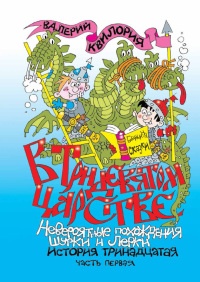Книга Три куля черных сухарей - Михаил Макарович Колосов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ну, ладно, не так сказал, беда какая. Ну, не набрехал, а обмишурился.
— Дак так надо и говорить, а то и обидеть человека недолго, — успокоилась Ульяна, заканчивая спор.
— А если бы вы кривой рельс привезли, разогнули б? — спросил я крестного.
— А то нет! Горбатый положил бы чи шо? — И взглянул на жену, ожидая поддержки.
— Разогнул бы! — подтвердила та и рассекла воздух энергичным жестом, словно саблей рубанула.
— Тоже об камень?
— Не знаю. Придумал бы как. — Карпо почесал желобок на подбородке, соображая, как лучше разогнуть рельс. — Я, пожалуй, разогрел бы его. Скорей бы дело было. — И обернулся к жене: — Прикрасил он в своей писанине, конешно, много, че там балакать.
— Во, опять за свое!
— Да ты погоди, не шуми. Я ж понимаю, што без прикрасу нельзя. Вы вон с Дарьей Чуйкиной балакаете про когось — тоже ж не обходитесь без прикрасу? Так и тут.
— Сравнил! — закачала головой Ульяна. — Сравнил бабьи сплетни с книжкою. Никакого прикрасу у него нету, — отрубила Ульяна, окончательно защитив меня от Карповой критики.
— Как же нету? — не сдавался Карпо. — А «эпопея» — это што такое? Што оно обозначаеть?
— Как што? — крестная оглянулась на меня.
— История, — сказал я.
— История, — подхватила она. — Там же в начале все поясняется. История.
— «История»… — передразнил Карпо. — Дак, а че ж он, — кивнул на меня Карпо, как на постороннего, — че ж он?.. Так бы и писал: «история» или «случаи», оно б было ясно и понятно каждому. А то «эпопея». Для чего? Ясно, для прикрасу.
— Оно и так понятно каждому, — не сдавалась Ульяна. — Писано для грамотных, для понятливых, а не для таких, как ты…
— Ладно. С тобой спорить — легше рельсу разогнуть. Будя, а то и про гостя забыли. Все уже простыло. Не обращай внимания на нас с бабкой, тебе видней, как оно там надо, чи эпопеи, чи ишо как. Давай…
Уходя от Карпа, я случайно увидел в приоткрытую дверь в чулан большущий полосатый матрас, до половины набитый чем-то комковатым. Бока его распирало твердыми шишками, словно внутри лежали камни. Верхние края матраса были завернуты внутрь и, если их распрямить, достанут, пожалуй, до самого потолка. Этот матрас я запомнил с давнего детства и, совсем не подозревая, что он до сих пор служит ту же службу, спросил:
— Сухари?
— Да, — нехотя, с досадой подтвердил Карпо и толкнул чуланную дверь.
Сухари! Опять сухари…
И в тот же миг — будто вспыхнул передо мной яркий экран и завертелась на нем старая, но бесконечно дорогая и волнующая кинолента — то ли «Мое детство», то ли «Моя юность», то ли еще под каким названием, но только очень моя…
Крестный пытался что-то говорить, оправдывался зачем-то, сваливал заботу об этом куле на свою «бабку» Ульяну, но и ее не виноватил, а говорил как-то снисходительно и к бабкиной затее, и к самим сухарям:
— Да пущай стоять, места не жалко. Они есть не просють и карман не рвуть… А гляди, можа, и пригодятся…
А я уже слушал его вполуха и видел все вполглаза: я уже был весь там, в том далеком и совсем недавнем времени, когда мы, ребятишки еще, столкнулись впервые с этим полосатым кулем, набитым до краев сухарями…
ЩУРКИ
За глухой саманной стеной забора бесновались потревоженные пчелы. Привычное спокойное облачко их над Чуйкиным двором превратилось в живой гудящий смерчевой столб, в котором неуемно кипело пчелиное месиво. Пчелы взлетали, падали, носились вдоль и поперек, и, глядя на них со стороны, казалось, будто насекомые справляют какой-то древний ритуальный танец.
А повыше этого гудящего смерча вилась стая красивых крупных птиц — щурков. Они-то и возмутили спокойствие размеренной жизни Чуйкиного двора. От стаи то и дело отваливалось несколько птиц, они пикировали почти до самой земли, хватали на лету пчел и взмывали вверх, не обращая внимания на Дарью, которая бегала вдоль забора, махала платком и истошно кричала:
— Кыш!.. Кыш, окаянные!.. Откуда вас нанесло на мою голову? И Родьки дома нема, он бы вас из ружья шуганул… Кыш!.. Кыш!.. Ребятки, да подмогните, каменюками их, каменюками…
«Ребятки» стояли поодаль, с азартом смотрели на Дарьину войну со щурками и явно держали сторону последних: никто из них не внял Дарьиному призыву. В ответ на ее вопли они лишь злорадно посмеивались да перемигивались. Один Илья Солопихин, по-уличному Ахромеев, — главный каменюшник и заядлый голубятник — не смог устоять перед соблазном швырнуть камень. Он давно уже нянчил в руке плоский круглый голыш и не знал, куда его запустить. Обрадовавшись случаю, Илья отвернул кепку козырьком на затылок, отвел руку как можно дальше назад, и камень черной молнией взвился ввысь. Пока голыш набирал высоту, Илья, заложив в рот четыре пальца, засвистел пронзительно, дико, по-разбойничьи.
Камень достиг своего зенита, застыл на какое-то мгновение среди щурков и стремглав понесся вниз. Падая, он угодил прямо в пасеку, загремел каким-то железом, насмерть перепугав цепного кобеля и Дарью. Кобель залился истошным лаем, а Дарья, оцепенев, соображала, что это за грохот такой, и, догадавшись, кинулась к ребятам с бранью:
— Ах вы хулиганы такие-сякие!.. Каменюшники проклятые, чума б вас взяла, жисти от вас никакой нема!
Ребята попятились, но не побежали, как обычно: вины они за собой не чувствовали. Лишь Васька Гурин из первых рядов мигом перебрался в последние и выглядывал оттуда украдкой. За ним была вина, и притом самая свежая. Как только началась Дарьина баталия со щурками, он тут же оценил подходящий момент, пересек соседские огороды, подлез под хитрую проволочную загородку Чуйкиного сада, нахватал там груш, яблок, наполнил кепку крупным полосатым, с красными разводами крыжовником, спрятал всю эту добычу у себя на чердаке и присоединился к ребятам.
Отступив в задние ряды, Васька сообразил, что для него лучше будет, если Дарья увидит его здесь, и снова вылез наперед — мозолил Дарье глаза, зарабатывал алиби. И все-таки не выдержал, снова отступил на всякий случай: вдруг догадается по глазам или еще как…
Илья стоял на месте как вкопанный. По-цыгански смуглый, коренастый, со сросшимися на переносице бровями, он смотрел на Дарью насупленно, будто бычок, приготовившийся боднуть противника.
— Во, — огрызнулся он. — То сама просила: «Ребятки, каменюками…», а теперь ругается.
— Просила? Кого я просила? Тебя просила, чтоб