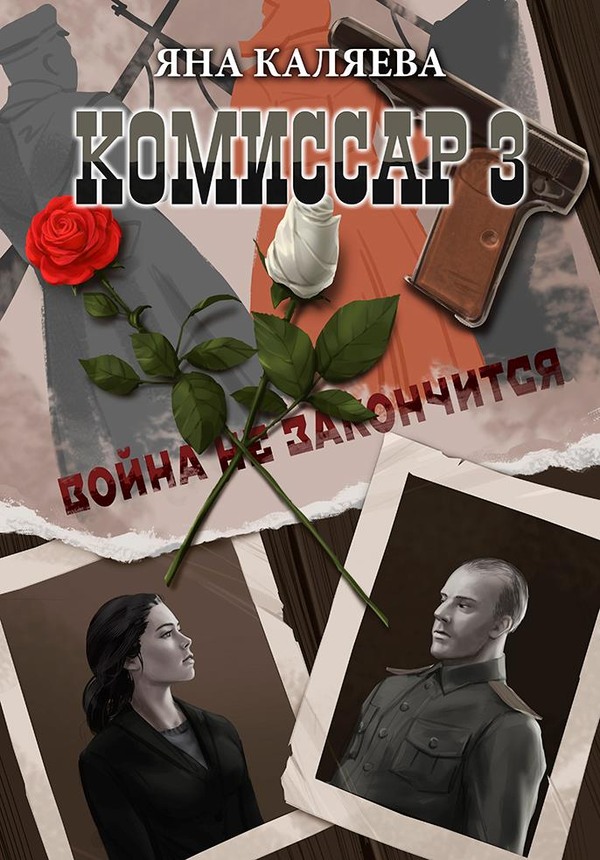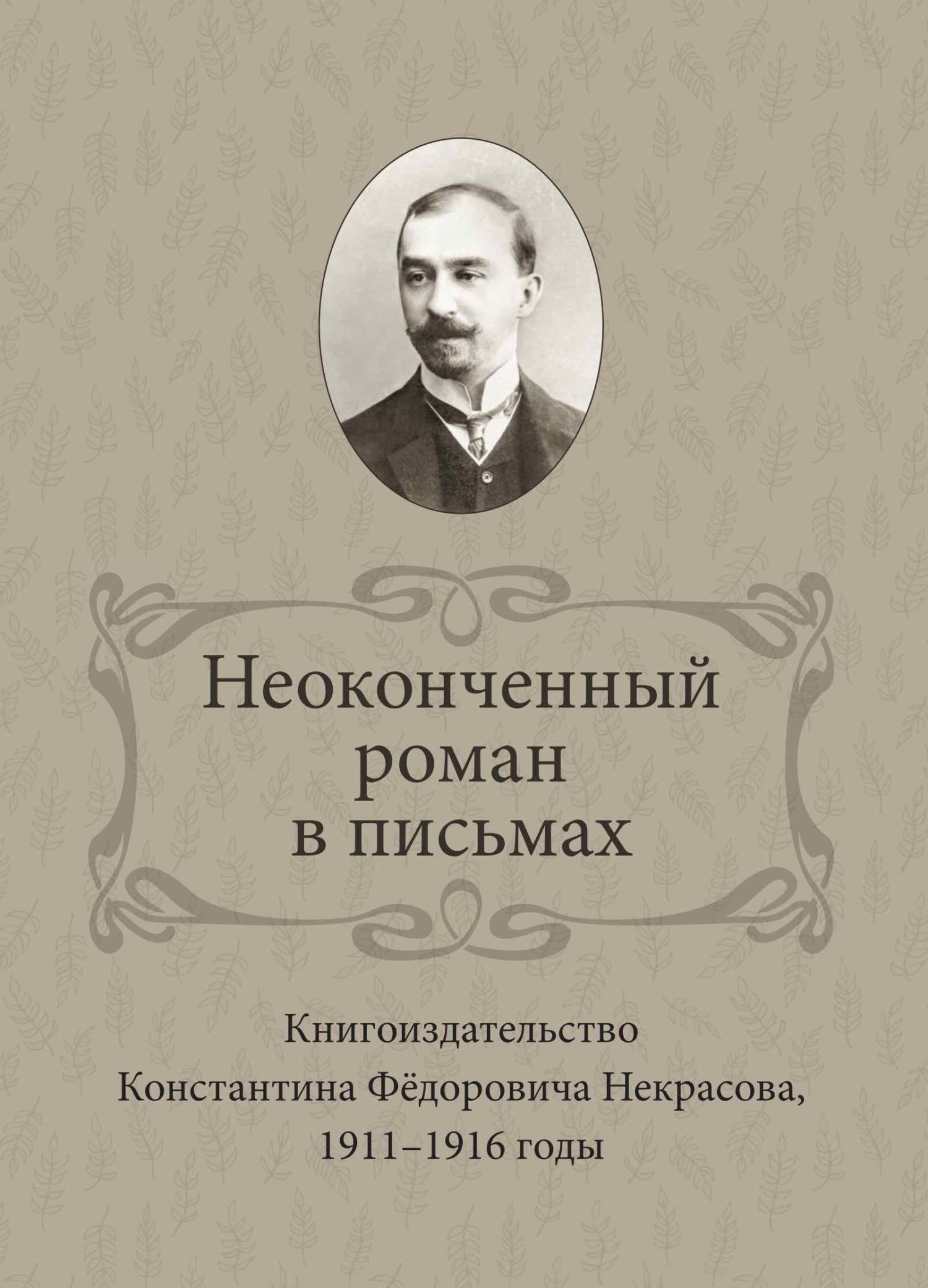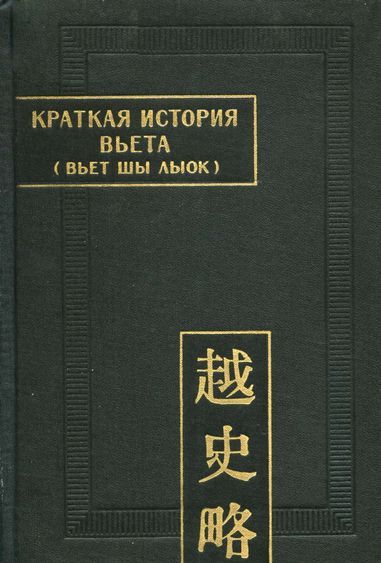Книга Наброски пером (Франция 1940–1944) - Анджей Бобковский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В четвертом акте мы видим салон семьи Жерар. Горят свечи. Черные фраки нотариуса и клерков. Их пригласили подписать документ, а скорее, официально признать недееспособными присутствующих здесь Жерара и мадемуазель Адриенну. В тот момент, когда Жерар садится в экипаж, чтобы уехать с Адриенной, они оба теряют память и чувство реальности. Они перестают видеть и узнавать друг друга. Они продолжают жить бок о бок, говорят друг с другом, тоскуют друг по другу, рассказывая о своей любви и ожидая смерти, которая соединит их навеки. Завершение мистическое, голубое и серебряное. Облатка.
После трех актов скрипучей terre à terre[804], после взрыва настоящих чувств и инстинктов этот эпилог похож на стакан теплой воды. Он все портит, уничтожая все напряжение. Три мощных акта проваливаются в вакуум слащавого мистицизма, все разбивается вдребезги. Ничего не поделаешь. Для кого-то, кто не знает Бальзака, кто не любит его, спектакль не представляет собой ничего интересного и кажется неудачным.
Для меня Бальзак вернулся к жизни. Мы чувствовали его присутствие, и когда мы разговаривали с Басей о некоторых сценах, мы оба улыбались. Это он, он «такой» и здесь, и там, в этом предложении, в этой сцене, в этом персонаже. Как он, должно быть, гордился эпилогом… именно этим эпилогом.
В театре, несмотря на моду на Бальзака, пусто. «Школа семейной жизни» не пойдет и провалится, даже учитывая феноменальное состояние театра на данный момент. Этого я опасался и не ошибся.
Изысканный Констан Реми{113} (Жерар) очень хорош, Мэри Морган{114} (Адриенна) великолепна.
1944
26.1.1944
Я не писал. С момента, когда будущее перестало быть загадочным, когда ясно, что наступает ночь, — зачем писать? Я уже пять дней в больнице. Сначала была боль, потом опухла шея с левой стороны, озноб, наконец врач объявил, что это «ганглий», или как там это называется, и требуется срочная операция. Вроде как мы спохватились в последний момент, и ситуация была серьезная. К., по обыкновению, оказался настолько заботливым и предусмотрительным, что благодаря ему у меня в общей палате как будто отдельный бокс. Жизнь в палате «идет своим чередом», но я не принимаю в ней участия.
Сегодня утром умер какой-то старик. Он тихо стонал. Когда пришел врач, старик уже испустил последний вздох. Погас. Я невольно дунул в воздух, как будто загасил свечу, и подумал: «Это жизнь». Кровать старика отгородили ширмами, и жизнь продолжила «идти своим чередом». Рядом с ним лежал молодой парень. Его принесли вчера после тяжелой операции: у него из горла доставали открытую булавку (где он ее нашел в наше время?), которую он проглотил. Парень вчера был еле жив, а сегодня уже встал и смеется. Сейчас пошел на больничный концерт. Я не пошел, не хотелось одеваться. Медленно тянется час за часом, часы без точек и запятых, время без каких-либо знаков препинания. Я выхожу в душевую покурить, в палате курить нельзя, и мне вспоминается время в гимназии. В таких условиях сигарета имеет более выраженный вкус. Читаю и думаю. На самом деле у меня есть то, о чем я мечтал неделями. Спокойствие, много времени и чувство «оторванности». Я немного оторван от мира. А между тем события в мире стремительно развиваются, приближаясь к парадоксальному и трагическому концу. Как зловещая тень, Россия все дальше и дальше простирается в будущее, твердо идя к победе, к единственной победе, и подчиняя себе всё. А что это значит? А то, что Восточная Европа окажется под властью механизированного варвара, хама, идеологии, убивающей в человеке все, что в нем есть человеческого. После стольких лет лжи, отвратительной, удушающей и одурманивающей лжи, после стольких лет пустых и бесчеловечных догм мы снова погрузимся в ложь, в догмы, в огосударствленное лицемерие? Наверное, да… Но чего я боюсь? Того, что, упаси господи, мне прикажут снова во что-то верить. Прикажут верить, что какая-то демократия или коммунистический строй — совершенны и единственно возможны. Что опять из дерьма создадут идеалы и идеологии, что опять ложь и пропаганду возведут на пьедестал и сделают из них нового Бога. У меня достаточно проблем со старым…
Так зачем нужна эта война? Кому? Люди чувствуют приближение конца, но не радуются. У всех страх, словно перед погружением в еще большую тьму. Как же изменилось настроение за полгода…
Я сижу один, и мне не хочется думать, мне страшно думать и додумывать до конца. Как все было бы просто, если бы можно было поверить, например, в прямоту московского радио.
27.1.1944
Я смотрю в серость за окном. Я после перевязки. Врач копался у меня в ране, и было больно. Человек должен смиряться со всем, что выпадает на его долю. Это единственный способ обрести покой. Протест против плохого в жизни ни к чему не приводит, тем более когда плохое уже произошло. Протестовать нужно против будущего. И это единственный конструктивный способ протеста. Чудовищность коммунизма — его непрерывный протест против прошлого, прошлого раннего капитализма, который сегодня не имеет ничего общего с реальностью. Протест против настоящего и будущего у них считается ересью. И этот их «happy end» меня убивает.
28.1.1944
Я все еще в больнице. Шов заживает медленно. На кровати № 3 лежит старый француз, усатый бретонец старой закалки. Я хожу к нему поговорить, а скорее, слушать его бесконечные истории. Он занимается раскрашиванием цветов. Это такая специфическая парижская специальность. Он красит вереск в сиреневый цвет, различные травы и цветы типа бессмертника. Рассказывает мне о предыдущей войне. Он был на Балканах. Возвращался из Константинополя в Салоники на корабле, на котором бушевал сыпной тиф. Вокруг умирали люди, и в жаркой тишине слышался плеск воды при выбрасывании трупов.
Это благочестивый, трогательно благочестивый и верующий человек, но без тени фанатизма. Он принадлежит к конгрегации при храме Сакре-Кёр и имеет собственное знамя, которое носит на всех процессиях. Он очень гордится этим знаменем. Заплатил за него 3000 франков до войны, «и это без древка, без фурнитуры и без футляра», добавляет он подмигивая. Лежит в