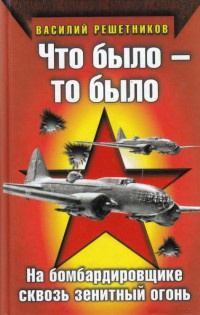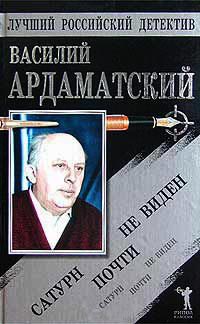Книга Жизнь и судьба - Василий Гроссман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Женя поправила волосы, видимо, чувствуя на себе взгляд Марьи Ивановны, и та сказала:
– Простите меня, Евгения Николаевна, но я не представляла себе, что женщина может быть так красива. Я никогда не видела такого лица, как ваше.
Сказав это, она покраснела.
– Вы поглядите, Машенька, на ее руки, пальцы, – сказала Люд" мила Николаевна, – а шея, а волосы.
– А ноздри, ноздри, – сказал Штрум.
– Да что я вам, кабардинская кобыла? – сказала Женя. – Нужно мне это все.
– Не в коня корм, – сказал Штрум, и хотя не совсем было ясно, что значат его слова, они вызвали смех.
– Витя, а ты-то есть хочешь? – сказала Людмила Николаевна.
– Да-да, нет-нет, – сказал он и увидел, как снова покраснела Марья Ивановна. Значит, она слышала сказанные им в передней слова.
Она сидела, словно воробушек, серенькая, худенькая, с волосами, зачесанными, как у народных учительниц, над невысоким выпуклым лбом, в вязаной, заштопанной на локтях кофточке, каждое слово, сказанное ею, казалось Штруму, было полно ума, деликатности, доброты, каждое движение выражало грацию, мягкость.
Она не заговаривала о заседании ученого совета, расспрашивала о Наде, попросила у Людмилы Николаевны «Волшебную гору» Манна, спрашивала Женю о Вере и о ее маленьком сыне, о том, что пишет из Казани Александра Владимировна.
Штрум не сразу, не вдруг понял, что Марья Ивановна нашла единственно верный ход разговора. Она как бы подчеркивала, что нет силы, способной помешать людям оставаться людьми, что само могучее государство бессильно вторгнуться в круг отцов, детей, сестер и что в этот роковой день ее восхищение людьми, с которыми она сейчас сидит, в том и выражается, что их победа дает им право говорить не о том, что навязано извне, а о том, что существует внутри.
Она правильно угадала, и, когда женщины говорили о Наде и о Верином ребенке, он сидел молча, чувствовал, как свет, что зажегся в нем, горит ровно и тепло, не колеблется и не тускнеет.
Ему казалось, что очарование Марьи Ивановны покорило Женю. Людмила Николаевна пошла на кухню, и Марья Ивановна отправилась ей помогать.
– Какой прелестный человек, – задумчиво сказал Штрум.
Женя насмешливо окликнула его:
– Витька, а Витька?
Он опешил от неожиданного обращения, – Витькой его не называли уже лет двадцать.
– Барынька влюблена в вас, как кошка, – сказала Женя.
– Что за глупости, – сказал он. – И почему барынька? Меньше всего она барынька. Людмила ни с одной женщиной не дружила. А с Марьей Ивановной у нее настоящая дружба.
– А у вас? – насмешливо спросила Женя.
– Я серьезно говорю, – сказал Штрум.
Она, видя, что он сердится, посмеиваясь, смотрела на него.
– Знаете что, Женечка? Ну вас к черту, – сказал он.
В это время пришла Надя. Стоя в передней, она быстро спросила:
– Папа пошел каяться?
Она вошла в комнату. Штрум обнял ее и поцеловал.
Евгения Николаевна повлажневшими глазами оглядывала племянницу.
– Ну, ни капли нашей славянской крови в ней нет, – сказала она. – Совершенно иудейская девица.
– Папины гены, – сказала Надя.
– Ты моя слабость, Надя, – сказала Евгения Николаевна. – Вот как Сережа у бабушки, так ты для меня.
– Ничего, папа, мы прокормим тебя, – сказала Надя.
– Кто это – мы? – спросил Штрум. – Ты со своим лейтенантом? Помой руки после школы.
– С кем это мама там разговаривает?
– С Марьей Ивановной.
– Тебе нравится Марья Ивановна? – спросила Евгения Николаевна.
– По-моему, это лучший человек в мире, – сказала Надя, – я бы на ней женилась.
– Добрая, ангел? – насмешливо спросила Евгения Николаевна.
– А вам, тетя Женя, она не понравилась?
– Я не люблю святых, в их святости бывает скрыта истерия, – сказала Евгения Николаевна. – Предпочитаю им открытых стерв.
– Истерия? – спросил Штрум.
– Клянусь, Виктор, это вообще, я не о ней.
Надя пошла на кухню, а Евгения Николаевна сказала Штруму:
– Жила я в Сталинграде, был у Веры лейтенант. Вот и у Нади появился знакомый лейтенант. Появился и исчезнет! Так легко они гибнут. Витя, так это печально.
– Женечка, Женевьева, – спросил Штрум, – вам действительно не понравилась Марья Ивановна?
– Не знаю, не знаю, – торопливо сказала она, – есть такой женский характер – якобы податливый, якобы жертвенный. Такая женщина не скажет: «Я сплю с мужиком, потому что мне хочется этого», а она скажет: «Таков мой долг, мне его жалко, я принесла себя в жертву». Эти бабы спят, сходятся, расходятся потому, что им того хочется, но говорят они совсем по-другому: «Это было нужно, так велел долг, совесть, я отказалась, я пожертвовала». А ничем она не жертвовала, делала, что хотела, и самое подлое, что эти дамы искренне сами верят в свою жертвенность. Таких я терпеть не могу! И знаете почему? Мне часто кажется, что я сама из этой породы.
За обедом Марья Ивановна сказала Жене:
– Евгения Николаевна, если разрешите, я могу пойти вместе с вами. У меня есть печальный опыт в этих делах. Да и вдвоем как-то легче.
Женя, смутившись, ответила:
– Нет-нет, спасибо большое, уж эти дела надо делать в одиночку. Тут тяжесть ни с кем не разделишь.
Людмила Николаевна искоса посмотрела на сестру и, как бы объясняя ей свою откровенность с Марьей Ивановной, сказала:
– Вот вбила себе Машенька в голову, что она тебе не понравилась.
Евгения Николаевна ничего не ответила.
– Да-да, – сказала Марья Ивановна. – Я чувствую. Но вы меня простите, что я это говорила. Ведь – глупости. Какое вам дело до меня. Напрасно Людмила Николаевна сказала. А теперь получилось, точно я напрашиваюсь, чтобы вы изменили свое впечатление. А я так просто. Да и вообще…
Евгения Николаевна неожиданно для себя совершенно искренне сказала:
– Да что вы, милая вы, да что вы. Я ведь в таком расстройстве чувств, вы меня простите. Вы хорошая.
Потом, быстро поднявшись, она сказала:
– Ну, дети мои, как мама говорит: «Мне пора!»
На улице было много прохожих.
– Вы спешите? – спросил он. – Может быть, снова пойдем в Нескучный?
– Что вы, уже люди возвращаются со службы, а мне нужно поспеть к приходу Петра Лаврентьевича.
Он подумал, что она пригласит его зайти, чтобы услышать рассказ Соколова о заседании ученого совета. Но она молчала, и он почувствовал подозрение, не опасается ли Соколов встречаться с ним.