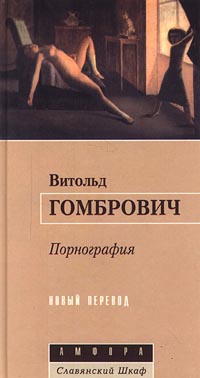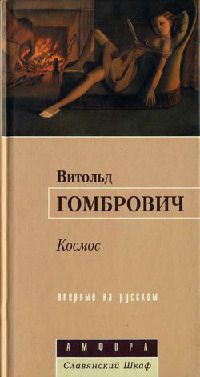Книга Дневник - Витольд Гомбрович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— А вы уверены, что Хёллерер действительно зашел и что он здесь и ищет нас?..
— Разумеется, — ответил он немного раздраженно, — вы же видите, а впрочем, вы ведь прекрасно знаете, что он должен взять нас в университет на Lesung[265].
* * *
Действительно… Вошел Хёллерер, Хёллерер-профессор, специалист, теоретик искусства, главный организатор культурной жизни, редактор влиятельного квартальника «Акценте» и еще какого-то очень специфического издания, посвященного, насколько мне известно, весьма специфическим экспериментальным исследованиям по части подсознательных механизмов речи! Всегда неприлично, когда автор вставляет реально существующих людей в текст, похожий на этот, полуреальный, даже если он осыпает их похвалами, а вставляет их просто для того, чтобы обойтись с ними как ему заблагорассудится, точно Господь Бог, а они становятся его креатурами, не имеющими права голоса. Тем не менее тешу себя надеждой, что мои берлинские друзья Хольцер, Хёллерер и другие простят мне эту выходку (в данном случае тем более грубую, что я был гостем города и гостем Фонда Форда) в соответствии с принципом, что тот, кто знает, что рыбу не едят ножом, может есть рыбу ножом. Хёллерер выпил с нами, а потом действительно усадил нас в машину и отвез на это свое Lesung в район мне незнакомый, какой-то сад, в нем дома и деревья, все удобно, свободное пространство парка занимали машины студентов; мы вошли в большой зал, сели на возвышении. Председательствовал Хёллерер, в президиуме — Хольцер, господин Берлеви, госпожа Ингрид Вайкерт, Клаус Фолькер; перед нами — ряды стульев, на них студенты, прилежные, спокойные головы, аплодисменты. «Что дальше?» — спросил я, поскольку слово Lesung было мне незнакомо.
— Ничего особенного. Прочтете несколько отрывков из своих книг.
— Но мое произношение…
— Не страшно.
— Но ведь я сам ничего не буду понимать… и они тоже…
— Не имеет значения. Вы — иностранный писатель, приехавший в Берлин. С нашей стороны это жест вежливости по отношению к вам, а кроме того, это очень полезно в плане международного культурного сосуществования, не говоря уже о том, что это обогатит и оживит учебный процесс. После этого Хольцер прочтет несколько своих стихотворений и будет дискуссия.
* * *
Я быстро сообразил, в какую ситуацию попал вместе с Хёллерером. Он принадлежал к людям, вызывающим доверие, я не сомневался, что профессор он был выдающийся, организатор прекрасный, немецкая даровитость была заметна во всем его облике, в движениях, в словах… я понял, что оказался в ловких, умелых и опытных руках. Но Хёллерер был насколько профессором, настолько и студентом с веселой душой бурша, потому что когда подходишь к дому, в котором проходит встреча с его участием, уже издалека слышишь доносящийся из окна его громкий студенческий смех. Вот и теперь я ждал этого его смеха, освобождающего от скованности, поскольку, ясное дело, не мог же он отнестись к моей ситуации серьезно, ибо здесь, перед этими студентами, перед этим Lesung, он наверняка понимал всю ничтожность нашего предприятия… Но, в силу типично немецкого разделения ролей, оказавшись перед лицом студентов, он придушил в себе студента и стал исключительно профессором, взошел на подиум, готовый открыть сессию. Войдите же в мое положение. Я был на грани… не столько сил, сколько реальности… Со времени моего отъезда из Аргентины Европа всасывала меня подобно вакууму. Затерявшийся в странах, городах, толпах, я был словно путник, поглощенный перспективами гор. Добравшись до города-острова, до города-химеры, я учуял собственную смерть в польских запахах Тиргартена. Ослабленный этой смертью изнутри, я был вынужден противостоять тайной смерти города, который смерть принес и смерть получил. И вся моя жизнь здесь тоже была затруднена, когда в кафе у Цунца я пытался самовыразиться, дать что-то от себя, когда я принимал участие в многоязычных международных приемах, ужинах, когда я пытался пробиться через странные облака, испарения этого удивительного края, этого театра, уходящего словно гора за облака, с его неразгаданной истиной, с его нерасшифрованным иероглифом. Но одновременно и как бы наперекор — реальность Берлина, реальность каждой сцены, каждой ситуации казалась все более солидной — ох уж эта их способность делать реальность из ничего! Возьмем, к примеру, сцену, которая разыгрывалась теперь: что тут говорить, Lesung пройдет самым серьезным образом, всё, начиная с окон и дверных ручек и кончая головами студентов, говорило о хорошей работе, а уж студенческие головы — прилежные, разумные, спокойные, а тела крепкие, здоровые, все с тетрадочками, да и Хёллерер на кафедре как дирижер! Единственное, на что я надеялся, так это на его смех, и я, Фердыдурке, в конце моего путешествия мог рассчитывать только на его смех бурша, смех студенческий, свободный, всесокрушающий! Куда там! Роли были распределены. Ситуация была под контролем: все делилось на студентов и профессора. Хёллерер со всей серьезностью открывает заседание, представляет меня, я раскланиваюсь, аплодисменты, он дает мне отмеченную страницу моего «Фердыдурки», просит прочесть, я отказываюсь
отказываюсь
отказываюсь
короткое замешательство, минутная задержка, наконец, по просьбе Хёллерера, начинает читать Клаус Фолькер
я слушаю и не слушаю
сижу и существую, но не существую
чтение
все идет хорошо
я существую?
Они существуют?
Я вроде как слушаю
а там, где-то наверху был крюк, вбит, вбит, вбит в стену, но ведь, наверное, не в эту, наверное, в ту, и этот крюк торчал, но, может, не здесь, а там, трудно что-либо знать в горах, в облаках, в тумане
в то время как здесь, в низинах, все шло гладко и с такой неизбывной верой в реальность того, что они делают, что я умирал
и тогда Хольцер начинает читать свои стихи, читает, аплодисменты, он улыбается, садится
Хёллерер, Берлеви, Хольцер, Клаус Фолькер начинают дискуссию, дискуссия
дискуссия
Хёллерер говорил как профессор и только как профессор, в рамках Функции. Берлеви — как поляк и как довоенный варшавский футурист и как художник, готовящий выставку, и как приглашенный Хёллерером. Хольцер — как поэт и как принимающий участие… Фолькер — как молодой литератор.
Не скажу, что меня как-то особо удивляет вид пяти немцев и восьми машин, занятых на строительстве дома. Оно конечно, эта их, пусть спокойненькая и добродушная, но все же непреклонная страсть претворять в жизнь может обеспокоить… но насколько, однако, страшнее видеть их реализующимися в чем-то более эфемерном, например, в Культуре… Я знал, что, организуя свою духовную и интеллектуальную жизнь, Берлин полон сессий, съездов, слетов, выставок, лекций, семинаров и т. д., и т. д., все — функционально, все сделано так, чтобы никто не смог усомниться в этой работе… долго можно говорить, если бы я хотел рассказать о том, что видел, с чем столкнулся; а видел я главным образом пресловутую неимоверную лояльность немца, реализующего себя в области Культуры, лояльность тем более странную, что идет она рука об руку с самым пронзительным скептицизмом… Взять хотя бы Хёллерера… ведь он не хуже меня знал, что здесь нереальность становится реальностью… но он действовал без колебаний, он функционировал без запинки, уподобляясь актерам, которые со всей силы наносят удары мечом, реальные только со стороны того, кто их наносит, и нереальные в своих последствиях, являющие собой некое половинчатое, неполное созидание… А я все ждал, что профессор взорвется необузданным студенческим хохотом, который просто ликвидирует заседание, уничтожит, разрушит, но Хёллерер, по неизвестным мне, видимо, каким-то чисто немецким причинам, ни ни йоту не отступал от своей серьезности.