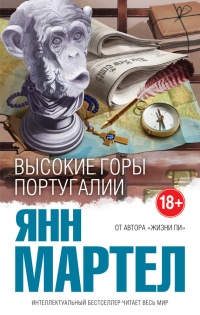Книга Солнцедар - Олег Дриманович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Отсюда два вывода, — рентгенолог, притопив в борще ложку, показал два пальца, — прогресс Богу угоден. Стало быть, угодна и питательная среда прогресса, хлеб, так сказать его и плесень — свобода. Сегодня много чего цветёт. И пусть! Пренебрегать не стоит ничем. Вычеркнули, воспретили, — а это какой-нибудь недостающий компонент в цепи познания, отброшенный только потому, что не понравился запах навоза, на котором он произрастал. Навоз, не навоз, для прогресса всё — топливо, на одной очищенной науке до великих тайн не прокатишься. А что Бог? Престарелый мальчишка, эгоист. Хочет, чтобы мы о Нём не забывали, чтоб, в конце концов, к Нему пришли. Лучше — через любовь, но и через мозги — не велико преступление.
— Если не через любовь — как-то неправильно… слишком просто, — осмелился Никита.
— Вот тут — да, тут непорядок, профессор, — с ехидцей поддакнул Мурзянов, высунув над кромкой столешницы зажатый в кулаке зелёный бутылочный глаз.
— Ох, я ж просил без вот этого, — Олег Иванович плаксиво глянул на долгую шею «Киндзмараули», сокрушенно вздохнул. — Дорогие, ну, не здесь же, в самом деле.
Где он достал, когда успел? — оторопело глядел на Мурзянова Никита.
— Компот из тары — лучше того, — попросил мичман решительно.
— А, пропади оно! — всплеснув пухлой ладошкой, Олег Иваныч резво бултыхнул моченые сухофрукты обратно в стеклянный кувшин. Двинул пустую тару к Алику.
Вино под укрывом столешницы было разлито и, пряча рубиновый нектар плотной хваткой стаканов, они выпили.
— Так что там о любви? — вскинулись на Никиту волосатые кошмарища майковских седых бровей, — ах да, в вашей каверзе, молодой человек, есть, конечно, свое зерно, — сказал рентгенолог, — но я зайду с другого бока. Кто ж против любви? Ничего не имею. Пусть остаётся главным блатным пропуском, только — за. Но в чём грех, если сперва — мозгами? Моя теория, может, с виду и дуршлаг, но в главном верна: на дорогу к Нему, — Майков патетически воздел толстый палец, — ступить дано лишь свободному сердцу. Другие варианты для Него оскорбительны. А уж умом или через любовь дотопать, — у кого как получится. Не бывает, говорите? Один мой знакомый венеролог через микроскоп дотопал. Как ни прильну, говорит, такая красота и гармония рембрандтовская! Такие узоры самоцветные! В жизнь не поверю, что оно само изобразилось!
Выпили еще, и рентгенолог, поймав жеманные улыбки за соседним столиком — три прокопчённые офицерские женушки, — отлучился со своей авоськой миссионерствовать. Веки Никиты смежились, и там, в темноте, Бог-мальчишка в рембрандтовском берете начал крутить детский калейдоскоп из самоцветных камушков. Запахло арбузом. Фарфоровую тишину зала царапала стальная многоножка вилок-ложек. Августовский бриз из окна нежно омывал его щёку. Калейдоскоп сочно дышал в дремотной темноте — то распускаясь узорчатым сложноцветом, то сонно увядая. Фарфоровый цокот стихал и вновь рос, набухая гроздью крупного дрожащего звона, пока не лопался, истекая через сводчатую анфиладу окон вниз, к морю, вязким насекомым щебетом. Потом эта обморочная оптика сделалась невозможно чёткой, и за синим простором моря, за вытертой ветрами белёсой линией горизонта Никите ясно увиделось его завтра… как сбывшаяся мечта: идёт — сам себе герой, по сияющей взлётке Пречистенки, взмывающей круто в небо, где солнце — не кислый московский лимон, а разноцвет, тот самый, Бога-мальчишки, — пёстрый, манящий неведомым, омытый вольными ветрами.
— Ну вот, еще трёх на сеанс хиромантии залучил… Идёт дело. Всё спит друг?
— Вроде.
— А знаете, Алик, что есть сны? Сны, между прочим, — обрывки фильма, в титрах которого мы — дневные операторы, и который главный режиссёр прокрутит нам после нашей смерти.
— Это как?
— А как снял, так тебе и покажут, и сиди вечность, смотри, что наснимал.
— Хреново. За эту теорию я пить не хочу.
— Аргументы…
— Ещё с первой автономки мурены по ночам мерещатся. И я их ни фига не снимал. Здесь, кстати, тоже полезли уродцы. Вот странно, да? Дома, в люле, только и отдых: цветочки, травка. Или ничего — какая-нибудь пустота. Тоже отдых. Нет, как-то был нормальный сон: дождь, радуга, стоит сруб. Чего-то меня потянуло. Зашёл. У стены инструмент — типа орган. Я — ближе, и как он вдруг гуданёт! Всю душу вынуло, потащило вверх. Обделаться, как хорошо было. Такое кино — куда ни шло.
— Клизменное потому что. В смысле — очистительное. За такое можно смело, выпить. Наливайте, Алик.
Бутылка зажурчала. Заворковали кадыки, и Никитины глаза открылись.
— С пробуждением! — седой гном-рентгенолог приветственно вскидывал общепитовский стакан. Из-под собольих накатов Аликовых бровей смотрели два знакомых угрюмых нырка.
— Ну, чё там видел? — пробурчал он мрачно.
— А сюда? — Никита показал на свой гранёный.
— Погоди, — Алик двинул его плечо нетерпеливо, как ширму, заслонившую неописуемо красивый вид. — Дай-ка кой-куда схожу, проведаю.
Мичман встал, поковылял в дальний конец зала не своей походкой, взятой напрокат у кого-то очень знакомого. Ну да, вспомнил Растёбин, сзади — маленький чернявый Позгалёв, ужавшийся и сильно обгоревший.
Он направлялся в запретный сектор — к генеральскому столику, но Никита не сразу отдал себе в этом отчёт. Точнее, не сразу почуял скверное, хоть и увидел её узкую, такую изящную спину, по странности сегодня одинокую. Облокотившись о край стола, Алик навис над молодой генеральшей. Подламывая ватно коленца, игриво поводя головой, заговорил. Похоже, вертлявые чары её не тронули: брезгливо отвернулась, потом и вовсе загудела стулом. Пьяненький искуситель тут же сократил меж ними зазор. Он продолжал активничать, с виду любезно, но по ответной реакции — не особо комплиментарно. Она вдруг встала, — в этом своём алом, воздушном, — будто медленно вспыхнула. Собралась уходить. И тут мимо Никиты, по проходу, вихря воздух и взмётывая углы скатёрок, пронеслось что-то плотно сбитое, вепристое. Шибанулось в мичмана, и с грохотом оба сгинули под столами.
В секунду сонливость прошла, Никита ринулся к генеральскому месту и, когда уже был рядом, увидел на полу сопящий, насмерть сцепившийся клубок, катимый противоходом борьбы то в одну, то в другую сторону.
— Опять на чу-жое потянуло?! Ну, на!
И Еранцев с рёвом вращал Алика в направлении бледной от ужаса генеральши.
— За-помни, сученыш, как не твоё пахнет! — дожимал он мичмана, словно наматывал на него запретный дух чужого добра.
— Мало тебе? Я до-бав-лю!
— Да ню-хай сам, у-ню-хайся, еб****утый! — Алик с натугой крутил их жернов обратно, выпутываясь из шлейфа неделикатно навязываемых запахов и заодно обстукивая генеральской головой ножки стульев.
На объятия армии и флота начали отвлекаться столики. Мичман и генерал были взяты в плотное кольцо любопытных, но даже захлёбывающиеся просьбы перепуганной молодой супруги — «Ну что же вы стоите! Кто-нибудь, разнимите их!» — не помогли: втроем — Никита, Майков и ещё один дюжий отдыхающий — растащить парочку не сумели. Спаянные злобой, они так надёжно в ней зафиксировались, что, когда Растёбин в очередной раз нырнул вниз, — увидел в набухших кровяных белках борцов тупую, остекленелую ярость: не лезь, бесполезно, заклин тут у нас конкретный, — сами.