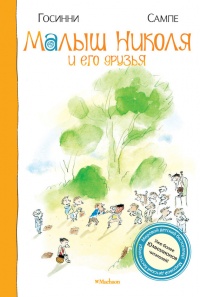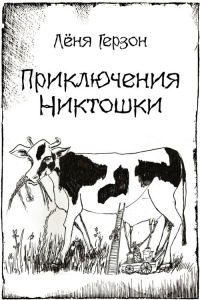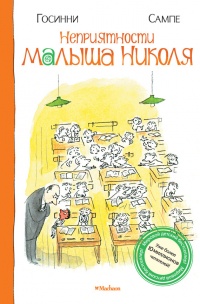Книга Зима, когда я вырос - Петер ван Гестел
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Папа сегодня тоже все время говорил про «потом», — сказал я. — Я полусирота. Папа говорит: полусирота — такого не бывает.
Зван рассмеялся.
— Хорошо сказано. Ладно, давай слушать пластинку, тебе наверняка понравится.
Из шкафа он достал патефон в чехле.
Поставил патефон на стол в гостиной, открыл крышку, вынул из квадратного конверта старую хрупкую пластинку и положил ее на вращающийся диск. Потом стал как ненормальный крутить ручку патефона. Затем передвинул рычажок, и пластинка начала вращаться. Зван медленно и осторожно опустил блестящую головку — игла прикоснулась к пластинке.
Шипение и треск, затем послышался довольно хриплый гнусавый голос. Кто-то плаксивым голосом пел про какого-то «сыночка» — Sonny Boy.
Слушая, Зван вытягивал вперед сложенные трубочкой губы. Точно для поцелуя. Выглядел при этом как круглый идиот.
— Ни слова не понимаю, — сказал я.
Зван приложил палец к губам.
— Жалостная песня, да?
Он пожал плечами.
Когда пластинка доиграла, почесал подбородок.
— Это негр поет, да? — спросил я.
— Нет, — сказал он, — Эл Джолсон — он не негр, а русский еврей в Америке, Эл Джолсон красит лицо черным гримом и становится похож на негра, там это называется coonsinger[10]; он поет о своем сыне, который умер маленьким. Папе эту пластинку подарил его брат Аарон. Дядя Аарон живет в Америке. В тридцатые годы он приезжал на месяц в Голландию и привез тогда отцу этот патефон и пластинку. Ты внимательно слушал? Он поет об ангелах, которым грустно и одиноко, поэтому они хотят, чтобы сыночек вернулся на небо. Очень печальная и очень красивая песня. Папа, я помню, как-то раз сказал… он сказал: «Санни, тебя мы ангелам не отдадим, пусть и не просят, — завтра поедем в Девентер на велосипеде».
— На велосипеде в другой город?
— Да, на поезде он не любил, а он обязательно хотел провести этот день хорошо. Хочешь еще разок послушать?
— Хоть десять раз!
Зван засмеялся:
— Я еще никому не давал ее слушать, в смысле не своим.
— А я свой или не свой?
— Теперь уже свой, — сказал Зван.
Мы слушали пластинку с песней «Sonny Boy» еще раз двадцать. Он крутил ручку до полного изнеможения и два раза менял иглу.
Шагая по Ван Ваустрат, я думал о тете Фи. Я понятия не имел, который час и что меня ждет, а она-то наверняка знала. Я знал одно: еще не ночь, но, конечно, уже очень поздний вечер.
Надеюсь, что она злится, надеюсь, будет ругать меня на чем свет стоит. Но боюсь, что будет иначе. Боюсь, она расплачется, едва я шмыгну носом.
Тетя Фи не сердилась, она была очень огорчена.
— Не делай так больше, Томми, — сказала она, — я безумно волновалась, это нехорошо с твоей стороны, так ты плохо кончишь. Хочешь еще стакан горячего молока?
Я кивнул.
Она не дала мне оплеуху. Теперь ее огорчение будет сопровождать меня, когда я пойду в эту кошмарную комнату для гостей. От мамы мне всегда доставалось немало оплеух, у меня часто горели оба уха, что давало ощущение равновесия. Рассерженная мама лучше, чем огорченная тетя.
Внезапно тетя Фи от испуга прикрыла рот рукой.
— Малыш, — воскликнула она, — откуда у тебя этот свитер?
Тьфу ты, подумал я, совсем забыл его снять.
В маленькой боковой комнате брюссельской капустой, слава богу, не пахло. Лампочка над дверью светила тускло, читать было невозможно.
Я лег на раскладную кровать и вспомнил комнату Звана.
Здесь все было иначе. Линолеум с мраморным рисунком на полу весь растрескался, на стене висели эти чертовы натюрморты — при таком освещении они выглядели менее скучными; на одном из них была ваза с двумя ручками, а рядом с вазой лежали две груши — через полуопущенные веки мне показалось, что это два глаза и нос с гигантскими ноздрями, как будто жуткий великан наблюдал за мной: а ну засыпай!
Я лежал в этой странной кровати, а в ушах у меня непрерывно звучала песня «Sonny Boy».
Значит, в доме на Ветерингсханс я уже свой. Для папы я тоже свой, но какой мне от этого прок?
Как сильно Эл Джолсон любил своего сына! От этого хотелось плакать, но слезы были сладкие. Странно, раньше я эту песенку, кажется, никогда не слышал.
Я залез под одеяло с головой.
«Sonny Boy» все еще тихонько звучал у меня в голове, я лежал с открытыми глазами и думал про Ден Тексстрат. Я видел старика в подтяжках и мальчика, стучавшего себя по лбу.
Чем же эта улица такая особенная?
Я посмотрел на свитер. Он не слишком аккуратно висел на спинке стула. Носовой платок Бет я прижимал к губам.
В первую ночь у тети Фи я так и не сомкнул глаз. Но, может быть, мне только снилось, что я не сплю.
Рано утром дядя Фред ударил в коридоре в индийский гонг. Эту штуковину я видел на многих его фотонатюрмортах. Но никогда не слышал, как она звучит. Отвратительный звук!
Понедельник. Днем в доме у тети Фи на Теллегенстрат было довольно-таки оживленно. Она давала урок кройки и шитья веселым девушкам по имени Корри, Антье и Сюс — лет восемнадцати. У них еще не мерзнут ноги и не трескаются ногти. Они красят губы ярко-красной помадой, от этого кажется, что они только что полакомились вареньем. Они непрерывно пудрят щеки — если в это время подойти к ним слишком близко, то закашляешься от сладкой пудры.
На полу раскиданы выкройки из кальки и куски ткани. На столе среди всякого барахла — две допотопные швейные машины. Однажды я попробовал сшить вместе Два кусочка материи. Ничего не получилось — ведь это женская работа.
Тетя Фи накинула халат в цветочек, как у уборщиц, на голове у нее была смешная косынка с большим узлом. Она сказала мне:
— Честно сказать, ты мне здесь мешаешь, Томми. Пожалуйста, позавтракай сам — и постарайся не насорить крошками!
Корри, Антье и Сюс болтали о молодых людях и о нейлоновых чулках.
— Девушки, — повышала голос тетя Фи, — успокойтесь, вы создаете нервную обстановку, вы что, не замечаете?
Они сжимали губы и принимались сердито и поспешно резать ножницами большие куски бумаги.
Но долго им было не выдержать.
Они принялись оживленно обсуждать свои носы. То ли завидовали друг другу, оттого что у подруги нос красивее, то ли наоборот — я так и не понял. Я сидел на кресле с твердыми пружинами, а на коленях у меня стояла тарелка с двумя двойными бутербродами. Когда я поднимал бутерброд, джем капал мне на брюки. Пусть эта троица и не надеется, я им ничего не дам.