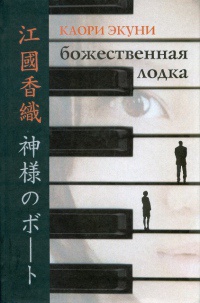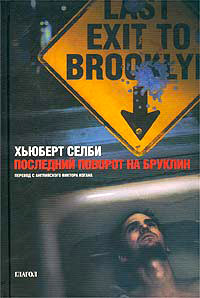Книга Маленькая жизнь - Ханья Янагихара
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сегодня суббота, завтра — День труда, обычно они в это время всегда ездили в Труро, но в этом году на все лето сняли для Гарольда и Джулии дом возле Экс-ан-Прованса и поэтому на праздничные выходные уехали вдвоем в Гаррисон. Завтра приедут Гарольд с Джулией, Лоренс и Джиллиан, может, приедут с ними, а может, и нет, а сегодня Виллем должен встретить на станции Малкольма с Софи и Джей-Би с его полупостоянным бойфрендом Фредриком. Они с друзьями теперь так редко видятся — Джей-Би получил грант и полгода провел в Италии, Малкольм и Софи проектировали новый музей керамики в Шанхае, — что в последний раз они встречались все вместе в апреле, в Париже: он там был на съемках, Джей-Би прилетел из Рима, Джуд — из Лондона, где в то время работал, а Малкольм и Софи завернули к ним на пару деньков по пути в Нью-Йорк.
Почти каждое лето он думает: это лето — лучшее. Но теперь он по-настоящему знает, это — лучшее лето. И не только лето — и весна, и зима, и осень. Чем старше он становится, тем чаще думает о том, что его жизнь — это череда ретроспектив, и каждый уходящий период он оценивает будто винтаж вина, делит прожитые годы на исторические эпохи. Честолюбивые Годы. Годы Сомнений. Годы Славы. Годы Заблуждений. Годы Надежды.
Когда он рассказал об этом Джуду, тот улыбнулся.
— И в какую же эру мы нынче живем? — спросил он, и Виллем улыбнулся ему в ответ.
— Не знаю, — ответил он, — я пока не определился с названием.
Но они оба сходятся в том, что Ужасные Годы для них, по крайней мере, закончились. Ровно два года назад — в эти же праздничные выходные — он сидел в больнице в Верхнем Ист-Сайде, уставившись в окно, и его буквально тошнило от густой ненависти к санитарам, медсестрам, врачам в этих их зеленых пижамах, которые толклись под окнами, ели, курили, болтали по телефонам — как ни в чем не бывало, как будто и не было над ними никаких людей в разных стадиях умирания, среди которых был и его человек — человек, который лежал сейчас в медикаментозной коме с колючей от лихорадки кожей, который в последний раз глаза открывал четыре дня тому назад, когда очнулся после операции.
— С ним все будет хорошо, Виллем, — все лепетал Гарольд, который всегда по натуре был еще тот паникер, хуже Виллема. — С ним все будет хорошо. Энди так сказал.
Гарольд твердил это снова и снова, как попугай повторяя все, что Виллем и так уже слышал от Энди, и в конце концов Виллем сорвался:
— Господи, Гарольд, да уймись ты. Ты, блядь, всему веришь, что говорит Энди? Ты на него посмотри — ему что, лучше? Что, заметно, как он на поправку идет?
Но тут он увидел лицо Гарольда — лицо бодрящегося старика, на котором проступила горячечная, безнадежная мольба, и, резко устыдившись своих слов, обнял его.
— Извини, — сказал он Гарольду, который, потеряв одного сына, теперь убеждал себя, что не потеряет второго. — Извини, Гарольд. Извини. Прости меня. Веду себя как мудак.
— Ты не мудак, Виллем, — сказал Гарольд. — Но не смей мне говорить, что он не поправится. Не нужно мне этого говорить.
— Знаю, — сказал он. — Конечно же он поправится. — Он говорил точь-в-точь как Гарольд, эхо Гарольда, которое вторит Гарольду. — Конечно поправится.
Но внутри у него жучком копошился страх: нет тут, конечно, никакого «конечно». И не было никогда. Всяким «конечно» настал конец полтора года назад. Нет у них никакого «конечно» и больше не будет.
Он всегда был оптимистом, но за эти месяцы от его оптимизма ничего не осталось. Он отменил все съемки до конца года, но осень тянулась так медленно, что он жалел об этом, жалел, что ему нечем себя занять. В конце сентября Джуда выписали из больницы, но он был таким худым, таким хрупким, что Виллему страшно было до него дотронуться, страшно было даже на него глядеть, страшно было видеть, как от заострившихся скул у рта залегли тени, как во впадинке у горла бьется пульс, будто что-то живое пытается выбраться из его тела наружу. Он видел, что Джуд старается его успокоить, старается шутить, и от этого ему становилось еще страшнее. Когда он — редко, но все-таки — выходил из квартиры («Иначе нельзя, Виллем, — сухо сказал ему Ричард, — не то ты с ума сойдешь»), его так и подмывало выключить телефон, потому что после каждого «дзынь!» от Ричарда (или Малкольма, или Гарольда, или Джулии, или Джей-Би, или Энди, или Генри Янгов, или Родса, или Илайджи, или Индии, или Софи, или Люсьена, или от того, кто там сидел с Джудом, пока он рассеянно бродил по улицам, или занимался внизу в спортзале, или пару раз пытался, не дергаясь, вылежать сеанс массажа или высидеть обед в ресторане с Романом или Мигелем) он думал: «Все. Он умирает. Он умер», и выжидал миг, еще миг перед тем, как снять трубку и услышать, что это просто очередной отчет о состоянии Джуда. Что Джуд поел. Что не стал есть. Что он спит. Что его подташнивает. В конце концов пришлось всем сказать, чтоб звонили ему, только если случилось что-то серьезное. Не важно, если у вас есть вопросы и позвонить быстрее всего: пишите сообщения. Когда ему звонят, он воображает самое худшее. Впервые в жизни он на собственной шкуре испытал, каково это, когда люди говорят, будто у них чуть сердце из груди не выпрыгнуло — да и не только сердце, ему казалось, будто все его внутренности взмывают вверх и, в панике сжимаясь в клубок, пытаются выскочить изо рта.
О процессе выздоровления люди всегда говорят как о чем-то неуклонном и предсказуемом, как о диагонали, которая стремится из нижнего левого угла графика в верхний правый. Но когда Хемминг выздоравливал — когда он так и не выздоровел, — все было совсем не так, и теперь все совсем не так было с Джудом: их график напоминал зубчатые горы с впадинами и вершинами, и в середине октября, когда Джуд вышел на работу (по-прежнему ужасно худой и слабый), ночью он проснулся от такой высокой температуры, что у него начались судороги, и Виллем был уверен — вот оно, вот теперь уж точно конец. Он понял, что, несмотря на весь свой страх, так и не сумел к этому подготовиться, что так ни разу и не задумался, а что тогда будет, не в его характере было торговаться, но теперь он именно это и делал — торговался с кем-то или с чем-то, во что, как теперь оказалось, верил. Он обещал быть терпеливее и благодарнее, обещал меньше чертыхаться и быть менее тщеславным, обещал меньше заниматься сексом, меньше себя баловать, меньше ныть и меньше на себе зацикливаться, быть не таким трусом и не таким эгоистом. Джуд выжил, и на Виллема обрушилось настолько всеобъемлющее и безжалостное облегчение, что он упал в обморок, Энди выписал ему таблетки, снижающие тревожность, и сослал на выходные в Гаррисон в компании Джей-Би, а Джуда они с Ричардом взяли на себя. Ему всегда казалось, что уж он-то, в отличие от Джуда, умеет принимать чужую помощь, но, как выяснилось, в самые трудные минуты он напрочь забывал об этом своем умении и был рад, когда друзья ему о нем напоминали, и признателен им за это.
Ко Дню благодарения все не то чтобы улучшилось, но хотя бы и не ухудшалось больше, и они сошлись на том, что это одно и то же. Гораздо, гораздо позже они поняли, что то была точка бифуркации, за которой последовали сначала дни, потом недели, а потом целый месяц, когда не ухудшалось ничего, когда они снова вспомнили, что можно просыпаться утром не с ужасом, а с надеждой, когда они наконец смогли, хоть и с оглядкой, говорить о будущем, думать о том, как они проживут не только этот день, но еще много дней, которых пока не могли даже вообразить. И только тогда они стали заговаривать о том, что еще нужно сделать, только тогда Энди начал составлять для них серьезные графики — графики на месяц, на два месяца, на полгода, — в которых было прописано, сколько фунтов Джуду нужно набрать, когда ему изготовят постоянные протезы, когда он должен сделать на них первые шаги и когда Энди должен увидеть, как он снова ходит. Они снова окунулись в воздушный поток жизни, снова научились жить по календарю. В феврале Виллем снова читал сценарии. В апреле, к своему сорок девятому дню рождения, Джуд снова ходил — медленно, неуклюже, но ходил — и снова стал похож на нормального человека. В августе, ко дню рождения Виллема, почти через год после операции, он, как и предсказывал Энди, стал ходить гораздо лучше — плавно и с большей уверенностью, чем ходил на своих ногах, и не просто стал похож на нормального человека — он стал похож на себя.