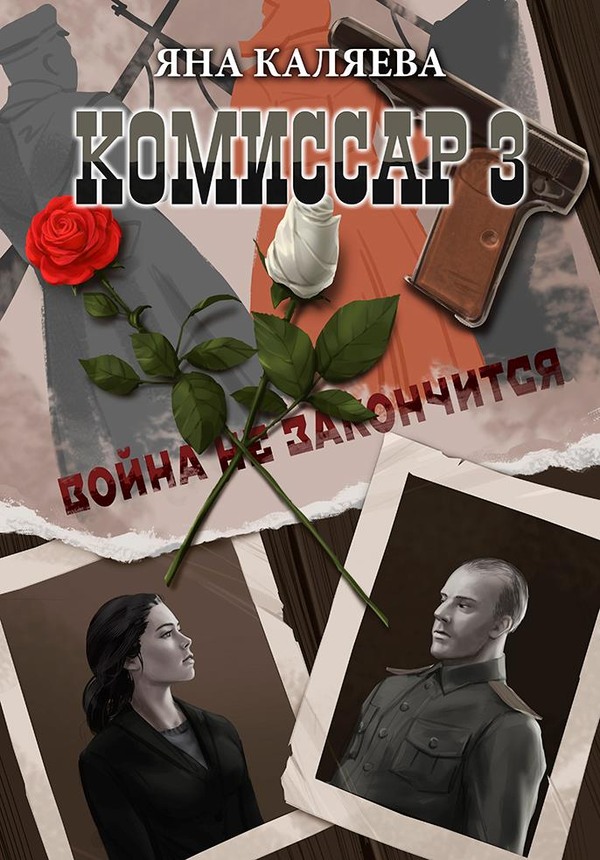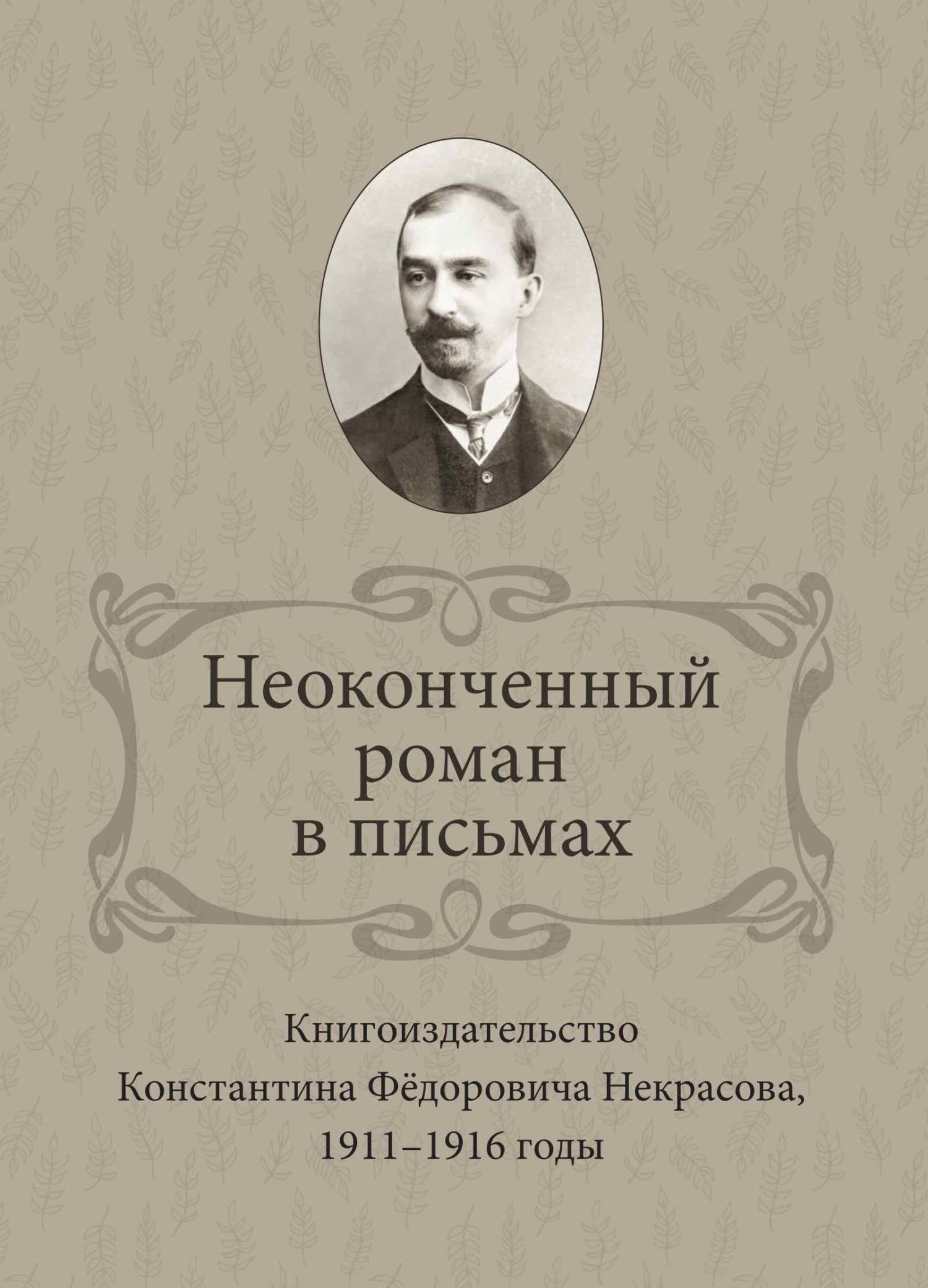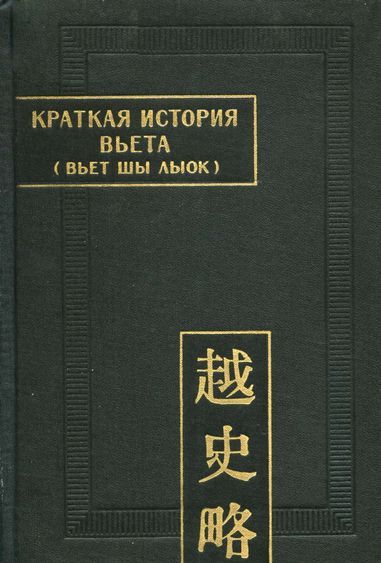Книга Наброски пером (Франция 1940–1944) - Анджей Бобковский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вовлечь в разговор моего спутника не просто. Все мои попытки расширить круг тем наталкиваются на его стремление этот круг сузить. Чтобы проникнуть через горлышко в бутылку, в которой строят идеологическую часовню, нужна система. Длительная работа в поте лица, работа, начатая в XVIII веке, когда Гельвеций{86} мог сказать, что из самого скромного альпийского пастуха можно по желанию сделать Ликурга{87} или Ньютона, эта работа продолжалась весь XIX век и только сегодня дает свои плоды. Именно из домашнего художника и капрала у нас получилось нечто наподобие Ликурга, а из несостоявшегося грузинского попа — современный Перикл, полубог. Работа была плодотворной. Пенлеве{88}, став министром, скажет в одной из речей, что всю свою политику он основал на точности правил геометрии. А что, сегодня в мире по-другому? Этот молодой парень, как миллионы других молодых людей в Германии, в Советах, в Соединенных Штатах и в Азии, верит, что «все можно сделать» в соответствии с той или иной теорией, идеологией, системой. После прошлой войны Г. Ферреро писал, что если древняя цивилизация рухнула, то потому, что в определенный момент она потеряла надежду на улучшение государства. Нашей цивилизации грозят сложности по причине совершенно противоположной: она верит в возможность всех видов прогресса, политического прогресса в том числе. Что означают «политический прогресс» и вера, слепая вера в его возможности, мы сегодня знаем. Развивая свою мысль, Ферреро пишет далее: «В общем, мы настолько уверены в наших силах по созданию идеального Государства, что, не колеблясь, пожертвуем всем, что еще вчера считали бесценным, например свободой. Древние хотели усовершенствовать Государство, но знали, что могут сделать это лишь в определенных пределах. Мы потеряли ощущение этих границ. Мы рассматриваем политические институты так, как если они были сделаны из воска и как если бы каждое поколение могло формировать их в соответствии со своими идеями; как будто им можно навязать изменения и результаты, которых требует наша концепция общественного блага; как если бы у нас была свобода выбирать среди всех политических доктрин, которые способен создать человеческий разум…»
Именно у этих миллионов «воспитанных» молодых людей пропало ощущение границы. При мысли о другой теории или временной полуправде все перечеркивается. Молодость всегда была идеалистической, мятежной, примитивной в своих рассуждениях, не терпящей возражений. Это совершенно понятно. Но когда я смотрю на сегодняшнюю молодежь, то замечаю совершенно чудовищную вещь: сбалансированное хладнокровие. Это не бурный и горячий идеализм, идеализм блестящих глаз, раздувающихся ноздрей и раскрасневшихся щек, молний, летящих налево и направо, учащенного пульса. Еще у нас, у моего поколения, прежде всего было горячее отрицание, здоровый анархизм, сочетавшийся с горячим юношеским стремлением к добру и благородству. Сегодня этот молодой парень, а с ним и миллионы других абсолютно твердо знают, чего они хотят, рассуждают холодно и «научно». Человечество, самые тяжелые жизненные проблемы в их руках — муха, которой они отрывают крылья, ноги и голову. Потому что этого требует какая-то теория, система или идеология. И они верят. Это, пожалуй, самое ужасное. Они хотят верить. Все чаще в соприкосновении с этим новым менталитетом у меня складывается впечатление, будто я смотрю на искусно выпиленную лобзиком часовенку в бутылке. Весь процесс сегодняшнего воспитания в Германии, в Америке, а особенно в Стране Советов идет по линии того, как точно распилить ум и вложить часовенку в бутылку. Текущая война является результатом этого направления интеллектуального развития, потому что все без исключения послевоенные режимы были «усовершенствованием» без соблюдения границ. Коммунизм при этом пришел к полной аберрации. Жизнь мстит жестоко, тем жестче, чем больше пытаются уйти от нее в область теории, утопии, слепой ВЕРЫ в систему. Когда Франция во время Революции фабриковала одну конституцию за другой, Янг{89} с жалостью улыбался и писал по другую сторону Ла-Манша: «Как неосмотрительно бросаться в объятия теории, чтобы создать конституцию». Сегодня, вероятно, его бы тошнило при виде того, что происходит в мире. Не только конституции — целые системы, даже нового человека хочется создать, бросившись в объятия теорий. И каких… Теорий, интерпретированных капралами и грузинскими, татарскими, степными хамами.
Ренессанс? Ренессанс начался с потери веры, человек эпохи Возрождения начал думать, размышлять, критиковать, НЕ ВЕРИТЬ. А мы? Мы любой ценой хотим верить, мы хотим держаться за другой плот, отцепившись от религии, от этого «опиума для народа». И что? Поэтому мы одурманиваемся вульгарными заменителями. Коммунизм сегодня — такой же «опиум для народа», как когда-то религия. Но у него есть один недостаток: его можно проверить на опыте. Вот где он спотыкается. Я все еще верю, что люди — не полные дураки, что поколение за поколением нельзя обмануть. Мне хочется каждые тридцать секунд повторять молодому парню, едущему рядом со мной по тихой дороге: «Перестань верить, сопляк. А если хочешь обязательно во что-нибудь верить, то только в то, что опытным путем недоказуемо. По-настоящему можно верить только в Бога, в рай, в ад, потому что этого никто никогда не докажет. Так что верь, и, по крайней мере, уже сегодня есть гарантия, что твоя вера никому ничего плохого не сделает». Но разговаривать с ним сложно. Он продолжает пилить лобзиком, просовывать в бутылку через горлышко кусочки с помощью пинцета и строить там свою часовенку. Это даже не модель корабля, не часы с маятником, не замок Шамбор в миниатюре, нет, ЧАСОВЕНКА. Часовенка в стиле всей этой огромной бессмыслицы XIX века.
Сент-Сюзан прекрасен. Старый город на холме, частично окруженный стенами средневековых укреплений. Внутри стен маленькие домики, садики и узкие улочки. Чтобы взобраться на стены, нам пришлось попросить ключ от калитки одного из садов. Сады очаровательны. Спрятанные под стенами, пахнущие зеленью и овощами, полные тайком посаженных кустов табака. Вся Франция выращивает табак, сушит, нарезает и восполняет дефицит сигарет, выдаваемых по карточкам. Каждый из этих небольших садов — Франция. Нельзя понять Францию без «понимания» этих садов.
Со стен открывается панорамный вид на подернутые дымкой поля и леса. В центре замок. Он сейчас принадлежит разорившемуся итальянскому графу и был отдан под место летнего лагеря Jeunesse Française[770] или какой-нибудь другой Pétainjugend[771]. Замечательный и заброшенный двор, на котором какой-то потный фюрер в окружении мальчиков ставил палатки и ларьки для завтрашней ярмарки. Куча бумаг, тряпок, веревок, досок и полотнищ.
Замок осыпается и разваливается на куски. Чудесный Ренессанс, деликатно отреставрированный под рококо, рушится. Нас