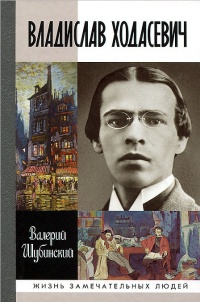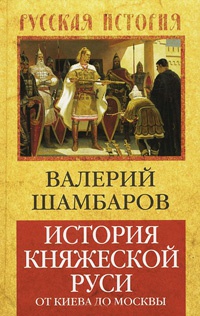Книга Лета 7071 - Валерий Полуйко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Почти сразу же и вспомнил Челяднин: Курбский, князь Курбский говорил ему в Дерпте те же слова, которые сейчас сказал царю Кашин. «Пошто не силой ума и величием духа влечет он за собой людей, а гнетом, насилием?» – говорил ему Курбский. И еще: «Великое и злое купно не живут!»
Вспомнил Челяднин и свои собственные слова, сказанные Курбскому в ответ, вспомнил и перевел взгляд на Ивана… Сказал он тогда Курбскому, что, быть может, великое беспомощно без зла… Не за царя говорил, но и за царя, а теперь хотел знать, что ответит на это сам царь?
Но Ивану не давали ответить… Он все еще стоял в дальнем углу палаты, у самой стены, словно припертый к ней столь решительным натиском бояр, и был явно растерян. Не ожидал он такого, тем более сейчас – после Полоцка, когда, казалось, бояре должны были вовсе поджать хвосты, принишкнуть и не перечить ему более ни в чем. Он вернулся с победой, с такой победой, от которой перехватило дух у польского короля, не говоря уж о литовских панах, и был уверен, что его собственным панам и подавно станет нечем дышать.
Нет, не думал он и не ждал, что бояре возблагоговеют перед ним, не думал и не ждал, что они смирятся и откажутся от противления, но и такого дерзкого, открытого, откровенного протеста, на который они не отваживались даже в поры своего могущества, он тоже не ожидал – и растерялся, и даже испугался. Его мнительность и взрывное, безудержное воображение могли зародить в нем самые невероятные мысли: он мог думать сейчас даже о том, что с минуты на минуту в палату ворвутся боярские наймиты, и схватят его, и бросят в темницу или хуже того – убьют. Недаром он с какой-то мрачной беспомощностью, даже затравленностью, жался в угол и с ожесточенным отчаяньем поглядывал на дверь, около которой стояли дьяки, не смевшие садиться не только в присутствии царя, но даже и в присутствии бояр. Может быть, они, дьяки, загораживавшие собой дверь, и помогли ему преодолеть свой страх: все-таки не совсем одиноким чувствовал он себя в эти минуты среди бояр, были и его люди, и это ободряло его.
– Где Воротынские, и Михайла-князь, и брат его Александр? Где Шаховский-князь? Где Куракины? Где Ростовские? – выговаривали Ивану попеременно то Шевырев, то Немой, то Куракин.
Иван молчал, вжался в угол, как затравленный волк, и молчал. Его молчание воодушевляло обличителей, подстегивало их, они смелели, смелели до наглости, в которой уже не было ни правоты, ни истины.
– Что тебе сделали братья мои? – выпинался негодующе Куракин. – Крест бездумно целовать не похотели?! Нешто опалят за такое, когда человек разума своего спросился – перед кем я крест целую? Пред государем ли иль перед теми, кто его на руках держит? Ты при смерти лежал, а Димитрия-царевича Захарьины, – ненавистно ткнул рукой в сторону Никиты Романовича Куракин, – на руках держали! Они бы – Захарьины!! – и стали нами владеть, как иные в твое малолетство владели.
– Нет… – резким шепотом, как бы поперхнувшись, сказал Иван и громче и тверже дважды повторил: – Нет! Нет! Они, братья твои, вкупе с Ростовскими, да Катыревыми, да иными Володимера на царство хотели.
– Не Володимера они хотели – Захарьиных не хотели над собой!
– Нет! – вновь вырвался из Ивана резкий шепот, тряхнувший его, как дрожь. – Володимера они хотела и иных подбивали… С княгиней Ефросиньей ссылались, деньги от нее получали, чтобы теми деньгами души за Володимера перекупать. Я все знаю, все!.. – болезненно, выстраданно приговорил Иван, ставший в этот миг похожим на блаженного, и тут же добавил, оправдываясь – не перед боярами, перед самим собой: – То ваша совесть прокаженная, ваша – не моя! Я никого из них живота не лишил, лишь с глаз своих прочь отослал. И в том моя слабость и доброта напрасная. У другого б государя они на цепи сидели, в рогатках[268]. По улицам их возили б в клетовищах, как диких зверей. А у меня они на моих государских хлебах почивают, в доброте и исправе, лише глаз моих не видят. Нет вашей крови на мне, нет! – вдруг злобно выкрикнул он, пришедший наконец в себя после недолгой растерянности. Его громадные черные руки с опавшими с них длинными рукавами кафтана взметнулись, как будто щупальца – сильные, страшные щупальца, готовые в любой миг впиться в избранную жертву. Он выступил из угла – на шаг, и вновь остановился, словно боялся лишиться своей надежнейшей защиты – стен, смыкавшихся за его спиной.
На минуту в палате стало тихо – как перед битвой, когда вставшие друг против друга полки ждут сигнала к атаке.
На местах для окольничих, весь превратившийся в ненависть, изнывал Головин. Сильней всех он жаждал схватки и готов был кинуться в бой сломя голову, но сдерживал себя, сдерживал и томился, одолеваемый еще одной тяжкой мукой – сознанием своей слабости, незначительности, из-за которой его не брали в расчет – ни как противника, ни как союзника.
Каким-то вдруг сникшим, растерянным сидел Шереметев, словно уже жалел о своей откровенности и в душе казнил себя за нее.
Насупился пуще прежнего Яковлев, Семен Васильевич, – глава Казанского приказа, насупился и отвернулся от своего родича Ивана Петровича, сидевшего рядом с ним… Должно быть, по разные стороны оказались сейчас их души, а тут уж не до родственных чувств.
Спокойный, лишь чуть побледневший Кашин в упор смотрел на Ивана. Казалось, он чего-то ждал от него… Может быть, отказа от только что произнесенных им слов. Но Иван молчал. Его жесткий, упорный взгляд медленно, с ядовитой прилипчивостью полз по боярским лицам. Вот взгляд его сошелся со взглядом Кашина… Мстиславский, следивший за обоими, понял, что Кашин уже не сдержится и нанесет свой самый сильный удар.
– Репнин… Михайла Репнин, – тихо, как будто таясь от кого-то, сказал Кашин. – Был у тебя боярин Репнин… Что с ним сталось?
Дрогнул взгляд Ивана, сломился, потухли вонзистые блики зрачков, глаза медленно ушли под тяжелую нахмурь бровей.
– Его кровь на тебе! – Кашин поднялся с лавки, рука его клеймяще вонзилась в Ивана. – На тебе его кровь, Богом данный нам государь! Вот она, твоя истина, твой свет!.. Вот она, твоя правота, твои достойные стези!.. Вот она, твоя совесть прокаженная! Какое же иго делить с тобой? Иго душегубства?!
– Замолчи!!! – истошно крикнул Иван и в изнеможении, с трудом, будто все силы его ушли на этот крик, договорил: – Замолчи, либо навеки замолчишь.
– Молчу… Пусть камни вопиют! – сказал с надрывом Кашин и решительно направился к выходу.
– Стой! – в злобном отчаянье попробовал остановить его Иван.
Кашин только полуобернулся к нему – уже в самых дверях – и твердо сказал:
– Поздно, государь. Сегодня я уже и сам не пойду за тобой.
За Кашиным ушла из палаты как будто и жизнь. Оцепенелость – только одна она была сейчас в каждом, и больше ничего, никаких чувств, должно быть, и мыслей… Но вот, рванув тишину палаты, как крик, раздался чей-то протяжный, унылый вздох, и тут же, вконец разрушая взломанную тишину, поднялся со своего места окольничий Головин и с суровым презрением сказал Ивану: