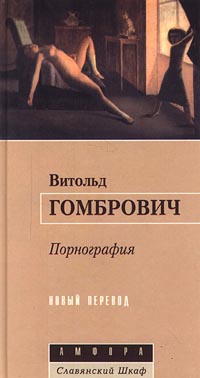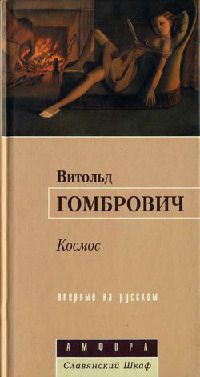Книга Дневник - Витольд Гомбрович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Гений Парижа постоянно пребывает в лихорадочной деятельности, произведения и идеи рождаются в лоне самого смелого из городов, несущегося впереди всех сегодня, как и много веков назад; тем не менее я сказал бы, что между городом и его жителями развилось какое-то болезненное, неправильное отношение, у них гений каким-то образом превращается в антигения, их собственная смелость как бы лишает их смелости, отвага — тревожит их, бунтарство — делает покорными, незаурядность вторгается в посредственность… и вот так ходят вокруг своего Духа, как парубки вокруг коровы, хозяйничают, доят, а молоко продают. Оно конечно, Париж, дворец, но они произвели на меня впечатленье дворцовых слуг…
…дворцовых слуг. В Париже, в этом городе собак, которым стоит только услышать звон колокольчика, как у них начинается слюноотделение, судьба одарила меня извращенными превратностями. Возвращаюсь я, значит, как-то раз ночью из одного гурманского бистро, с добрым вином в голове, и вижу открытые ворота дворца, увитого пречудесным барокко, и думаю… войти, что ли… ну и вошел… а там — залы, лепнина, плафоны, гербы, позолота. Тут вдруг входит человек хрупкого сложения, одет прилично, но так скромно, что я подумал — наверняка мажордом или камердинер. Попросил я его тогда, чтобы он меня по залам поводил, а он жену зовет, сыновей, сначала один выходит, потом второй сын вышел, потом и третий, вежливо всё мне показывают, где пыль какая — вытирают, сдувают, пальцем скульптур касаются, картин, обмахивают, стряхивают… и только когда я у выхода в карман полез за чаевыми, говорит он мне: о нет, я — князь, а то — жена моя, княгиня, а вот и сын мой — маркграф, этот — граф, а этот — виконт. Попрощались мы в молчании, которое стояло как вода в бочке.
Вышел я на улицу, долго по разным улицам ходил, пока наконец среди каких-то статуй не оказался, там, где сад Тюильри. В ночном свете меня окружила их нагота — мягкая и выгнутая, гнущаяся и гибкая, искусная, стройная, тонкая… разве что каменная, совершенно хладно-застывшая; парадокс, признаться, ибо — недвижное движение, мертвая жизнь, твердая мягкость, холодное тепло — и все это мертвое живет в переливах полуночного света… Думаю, что за притча, что за парадокс… и вдруг этот парадокс как начал расти да пухнуть, что сам себя перерастает… я тогда подумал, лучше мне на нем долго не задерживаться здесь, среди статуй, отойду-ка я лучше… Ну и пошел оттуда, сперва тихо пошел, потом побыстрее, да только статуй больно много, каменный лес… петляю, кружу… и вдруг как вкопанный останавливаюсь. Собаки передо мною! Смотрю, а то был мраморный Актеон, который только что увидал нагую Диану, а теперь убегает… а собаки — за ним, ощерились, клыки кажут, того и гляди — догонят, загрызут!..
Вот жуть! Смертный грех смельчака, псами затравленного, убегающего, оставался абсолютно неподвижным… И все продолжался, продолжался, бесконечно уходя в вечность, как скованный льдом ручей. И вот тогда перед лицом окаменевшего греха завыл Павлов… завыл глухо в недвижности ночи, донося свой вой до парижских предместий. А я пошел домой.
* * *
Пластические искусства все больше у них подминают литературу; это видно по критике, где в оценке литературного произведения стал применяться критерий родом из выставок живописи и галерей. В пластике — эпохи, стили, направления доминируют над индивидуальностью художника (которая в слове может выразиться бесконечно свободнее, чем в картине) — это преимущество коллективности и абстракции дает о себе знать и в литературной критике. Пластические искусства ближе к вещи, чем к человеку; живописец, скульптор делают вещи, предметы, а здесь и к литературному произведению подходят как к вещи. У этих критиков все больше о себе заявляет каталог: для них главное каталогизировать, зачислить в группу, отнести к направлению, критика становится все более объективной, в ней все больше теории, критик во все меньшей степени человек искусства и во все большей исследователь, знаток, эрудит и информатор.
Критик живописи или скульптуры вынужден писать о своих объектах как о чем-то совершенно чуждом и внешнем, и это потому, что ценности живописи нельзя передать словом, слово и кисть — две несоприкасающиеся области. А вот литературная критика — это слово о слове, литература о литературе. Что из этого следует? Что литературный критик должен быть художником слова и со-творцом, не может быть и речи об «описывании» литературы, как, к сожалению, описывают картины, здесь надо принять участие, она не может быть критикой снаружи, критикой вещи.
Но с тех пор, как они задушили в себе молодость с ее святой склонностью обниматься и притягиваться, мир становится для них все более внешним. То есть объективным. Nouveau roman français — это тоже печальный отказ от человечности в пользу мира, нет в этом поэзии…
Или же эта поэзия слишком односторонняя. В ней нет как раз того, что составляет поэзию молодости, она лишена очарования, которое притягивает и обезоруживает, она не умеет, не хочет нравиться… в ней нет легкости, простоты, первобытности, того, что не разделяет и не уточняет детали, а как раз объединяет и замазывает различия… А эта молодая поэзия достижима, если литератор знает, что он литератор в том числе и для молодежи. Что любая литература — это литература также и для молодежи. Что взрослый человек — это человек также для человека молодого.
Красота, поэзия, созидаемые исключительно в среде сорока-пятидесятилетних… хм, каково? Трудно сказать. Лучше, чтобы в нас играли все фазы развития одновременно — вот была бы музыка! Трудно созидать прекрасное в отрыве от возраста, в котором человек прекрасен.
В противном случае их произведения будут обладать всеми возможными достоинствами, кроме одного: привлекательности. Теряется секрет привлекательности. Это будет замечательная отталкивающая литература.
Французская литература — литература ли это вообще? У меня Париж постоянно смешивается с миром.
* * *
С Женевьевой Ceppo и Морисом Надё. Легкий ужин. Truffes à la Soubise[258]и Crème Languedoc Monsieur le Duc[259]. Я говорю, они слушают. Гм… это мне не нравится… когда я из Буэнос-Айреса выбрался в провинцию, в Сантьяго-дель-Эстеро, я молчал, а говорили местные писатели… всегда говорит тот, кто хочет показать себя, провинциал.
* * *
Жене! Жене! Представьте себе, какой стыд, прицепился ко мне этот педераст, все время ходит за мной, я иду со знакомыми, а он тут как тут.
На углу, где-то под фонарем и вроде как кивает… подает мне знаки! Как будто мы с ним «по одному ведомству»! Компрометация! А еще — возможность шантажа! Перед выходом из гостиницы смотрю в окно… нет его… выхожу… а он тут как тут! Его сутулая спина так и зыркает на меня!
С Жене я познакомился только в Париже. В Аргентине я понятия о нем не имел, подчеркиваю это, потому что для меня важно, что моя «Порнография», каковой бы она ни была, вещь самостоятельная, не возникшая ни из какого моего романа с Жене. Через неделю после моего прибытия в Париж кто-то дал мне почитать его «Les Pompes Funèbres»[260].