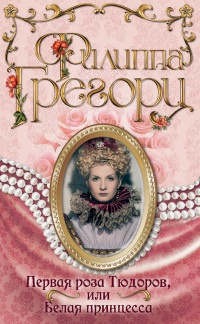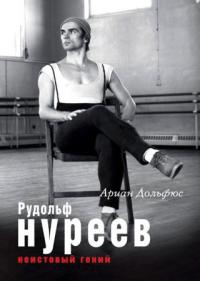Книга Рудольф Нуреев. Жизнь - Джули Кавана
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Главным, что отличало версию Рудольфа от стандартной «Раймонды», было его усиление роли Абдерахмана. Снова введя концепцию двойственности Одетты-Одиллии, он добавил новые соло, которые высвечивали дикий магнетизм сарацина и объясняли влечение к нему Раймонды. «Абдерахман – это секс-символ», – заметил Рудольф, имея в виду, что он возбуждает героиню так, как не может возбудить Жан. Работая над вариациями с Жаном Гизериксом, Рудольф демонстрировал элементы кавказских народных танцев и старался внушить ту экзотическую, животную чувственность, которую в свое время излучал он сам в «Корсаре» и «Баядерке», – такой стиль хореографии, который, как говорит Гизерикс, является «очень в духе Солора». (Шарль Жюд в значительной степени предпочитал роль Абдерахмана роли Жана, которого он называет «никаким».)
Все танцоры без исключения вспоминают, что работа с Рудольфом над «Раймондой» была абсолютной радостью, и после первой репетиции выразили свое признание аплодисментами. Не менее восторженным был отзыв представителя Министерства культуры Игоря Эйснера:
«Дражайший Рудольф!
Вы подарили нам великий и энергичный балет, который делает честь и Опере, и фамилии Петипа. Он настолько мощный, что французы наконец научатся смотреть балет. Труппа – просто чудо: они уже ваши большие должники».
Мари-Сюзанн Суби была не одинока, когда называла балет «tout nouveau, tout beau»[172] и думала, что все слишком хорошо, чтобы задержаться надолго. На какой-то, пусть и краткий, миг Рудольф был довольнее, чем когда бы то ни было. «Наконец-то я нашел гнездо, где могу успокоиться, – признавал он. – Здесь мне хорошо». Париж, колыбель классического балета, как он понимал, был «лучшим местом в мире, где можно вести труппу».
Руководителем именно парижской труппы два раза чуть было не становился Баланчин[173].
Более того, благодаря балетному божественному праву престолонаследия, именно к той труппе принадлежал сам Рудольф (Петипа, ученика легенды Парижа Огюста Вестриса, в Мариинском театре сменил Николай Легат, педагог Александра Пушкина).
По условиям контракта Рудольф обязан был шесть месяцев в году проживать в Париже, но это было нетрудно. Он никогда не уставал от вида из окон своих апартаментов в доме 73 по набережной Вольтера – развалы букинистов вдоль набережной, Лувр за стоящими через равные промежутки платанами, оттенок камня, который менялся от серого до золотого в зависимости от освещения. И хотя его короткий путь на работу всегда совершался в спешке в последнюю минуту, он служил постоянным источником радости – авеню Опера шла прямой широкой линией прямо ко Дворцу Гарнье, чей богато украшенный барочный фасад, величественный купол и золоченые крылатые скульптуры дарят один из самых красивых архитектурных видов. Под вечер он часто проводил время в «Ля Дансе» Жильберты Курнан, специализированном книжном магазине и галерее на улице Бун, за углом от набережной Вольтера. Будучи одним из ведущих балетных критиков Франции, Курнан была не только великолепной собеседницей, но и с 1961 г. радовала Рудольфа своей коллекцией статуэток танцовщиков, книгами, гравюрами и образцами костюмов. Кроме того, он любил бродить по антикварным магазинам в шестом квартале на левом берегу Сены; каждый магазин напоминал салон в Музее Карнавале с выставкой старинной керамики, статуй, постаментов, фарфора, обюссонских ковров, гобеленов эпохи Возрождения, мозаичных шкатулок (горок, шкафчиков?) и резных часов. Коллекционирование антиквариата стало для Рудольфа «еще одной страстью». Зная об этом, некоторые владельцы магазинов перед закрытием выставляли в витринах товары, которые могли соблазнить его. «Они знали, что после спектакля он имел обыкновение «глазеть на витрины». Он даже начинал «танцевать за мебель, которую хотел купить», прося Тессу Кеннеди договориться с торговцем, чтобы тот пришел за деньгами в театр. «Он говорил: «Теперь, когда я выйду на сцену, я буду думать о том гардеробе – он меня вдохновит!» Гордостью своей коллекции он считал русскую мебель XIX в. из карельской березы, изогнутую библиотеку, украшенную черным деревом, кресла, столы, горку, кровать и балдахин, позолоченные и обитые кавказскими коврами-килимами. «У меня только одна мечта. Всегда та же самая. Что когда-нибудь я смогу принять здесь мою мать. Я жду ее».
Но теперь с Рудольфом оказалась не мать, а Роза; она жила в гостевой комнате его квартиры на набережной Вольтера с видом на Сену. Ее «муж», Пьер Франсуа, как-то увидел ее на набережной Межиссери и собирался, по французскому обычаю, в виде приветствия дважды поцеловать ее в щеки, но Роза инстинктивно сжалась, как будто боялась нападения. Пьер пригласил ее к себе домой, чтобы она познакомилась с его давней спутницей жизни, «но Роза боялась, что Менгия ее ударит». Ему удалось убедить ее, и они втроем провели неловкий час, пытаясь понять друг друга. Пьер заметил, как «резкая перемена в образе жизни, языке, стране, общественном положении почти опьянила ее». Они просили Розу приходить к ним, когда ей захочется, но больше он ее не видел. «Ее интересовал только Рудольф», – говорит Пьер. Подобное положение очень огорчало брата Розы.
«Роза очень быстро взяла его дела в свои руки и считала всех, кто вращался вокруг него, своими соперниками, мошенниками или паразитами. Она просеивала все приходы и уходы и выговаривала Рудольфу из-за его образа жизни и его «многочисленных знакомств». Тогда Рудольф поместил ее в студии наверху, но, так как она продолжала делать его жизнь невыносимой, он послал ее в Ла-Тюрби, назначив ей ежемесячное пособие при условии, что она больше не вернется в Париж».
Племянница Рудольфа Гюзель тоже создавала проблему. Он хотел сделать для нее как лучше, когда она приехала в Париж, накупил ей вещей от Сен-Лорана и оплатил уроки французского. Он считал, что она умная и сможет поступить в Сорбонну, но у Гюзель были другие планы – как-то вечером Мод стала свидетельницей сцены на набережной Вольтера: «Гюзель все повторяла: «Нет, нет, нет», и наконец Рудольф повернулся ко мне и спросил: «Мод, разве она не не права? Я хочу, чтобы она вернулась и чему-нибудь научилась – истории искусства, чему угодно, лишь бы у нее появились хоть какие-то знания. Но она говорит, что это скучно и она не станет этого делать».
Рудольф обращался за помощью к нескольким друзьям; он просил Тессу принять Гюзель на работу в принадлежащую ей компанию по дизайну интерьеров, а Жаннет – дать ей временную работу официантки в «Тоске», ее модном баре в Сан-Франциско. «Но она оказалась слишком ленивой, – вспоминает Жаннет. – Ее дядя был знаменитостью; зачем ей кем-то становиться? Почему просто не жить в квартире, которую он ей подарил, и не радоваться жизни?» Уйдя от мужа, Гюзель искала «встреч с мужчинами», спрашивала Тессу, знает ли она, в какие бары ей можно ходить. «Я сказала, что попробую все выяснить у детей». Подобные рассказы дошли до Рудольфа, который сердито выговаривал Гюзели: «Ты наносишь мне огромный вред!» В отчаянии он позвонил Армен, которая тогда работала в отделе иммиграции в Сан-Франциско. «Сделай что-нибудь, – умолял ее Рудольф. – Их придется отправить назад!» «Но я сказала ему, что не могу просить, чтобы твоих родственников депортировали только потому, что ты в них разочаровался, потому что ты совершил ошибку, привезя их сюда». И все же она понимала, как должен быть расстроен Рудольф, когда понял, что между ним и его близкими возникла непреодолимая культурная пропасть. «Когда приехала Роза, она была совсем другой. Он видел другую Розу, другую Гюзель… Они были дикие, необработанные». «Эти люди говорят на другом языке, – говорил он Армен, криво улыбаясь. – Знаешь, я абсолютно убежден, что мы происходим от волков».