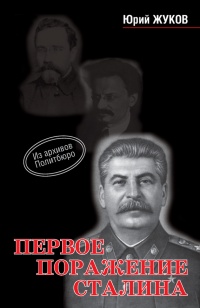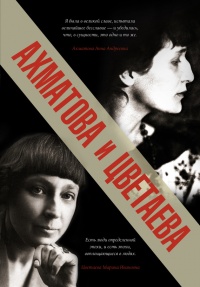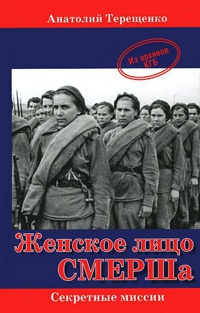Книга Воспоминания - Анастасия Цветаева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Слово «паек», из моего рта не выходящее, в его рте не живет. Тип труда, им себе избранный в стране, возвращающейся после разрухи к культурным началам (он работает в музее «сороковых годов» и считается, говорят, знатоком живописи), связан с большой отдачей времени в Наркомпросе, Главнауке, но дает ему другие возможности, чем мне, – на столе его не роскошно, но добротно, строго, «как должно быть» в возрождающейся стране, те предметы питания, к которым он привык с детства (оно идет, разумеется, с рынка), от которых Марина и я давно отвыкли. Работает он, может быть, не меньше моего, но «по специальности», и это делает его быт совершенно иным. Мой и Маринин быт с ночами без сна, с хлебом как радость, «жирами» – как достижение и с огромной потерей сил и времени для убогой стирки, для таскания на себе дров, овощей – к брату Андрею не был на порог впущен. То, что казалось с улыбкой (в нем, юноше) «вельможным», осталось и ныне, тут – «особенным». Зорко исследуя необходимость, он помогает кому в получении труда, кому – вот мне – и деньгами. Марине?
Почему он не помог ей в голод, в годы болезни детей и смерти Ирины? Слыхал ли о них? Мне неясно. Смутен слух (но он при Маринином презрении к законности, может, и явь), что ею была продана к ней на время поставленная мебель его знакомых, слух был и об объяснении Андрея с Мариной, но на эту тему не спрошу ни его, ни ее. Зная, что Сережи нет, где он – неизвестно, зная, что второй муж мой умер в 1917-м скоропостижно, что Борис умер в первую эпидемию сыпного тифа в 1919-м, он не спрашивает меня, но (это, впрочем, пришло несколько месяцев спустя) глухо, должно быть, считает, что мне бы ради Андрюши следовало «устроить свою жизнь». Он не выговаривает этого, а продолжает звать обедать, обещает сшить Андрюше шерстяной костюмчик и поговорить в Музее русской старины, не будет ли мне там работы. И так как за столом в воскресенье нет никогда родственных, о прежнем, бесед, а только что-нибудь об Андрюше, работе, квартире, я эти беседы подымаю, как мешок картошки (два пуда, пайком) или бревна с вокзала, и только стараюсь, чинно улыбаясь доброте к моему сыну не подпустить – всем усилием воли! Потому что уж давным-давно просятся, рвутся – слезы к глазам. А выйдя, еще на лестнице, оживая, сыну: «Наелся?»
Виноградов. Нилендер и Соловьев. Моя работа
– Ася, – сказала мне Марина, – я забыла тебе рассказать про Толю Виноградова. Знаешь, какой пост он сейчас занимает? Помнишь, как папа его опекал, устраивал на службу в Румянцевский? Так он теперь директор там! Очень важен стал. На службе его все боятся. Тебе непременно надо к нему пойти – противно? Преодолей себя для Андрюши, советую тебе. Ему ничего не стоит тебя хорошо устроить, тем более что ты уже работала в Феодосии в библиотеке – неужели он посмеет тебе отказать? И пойди непременно с Андрюшей! Он такой красавец, такой «маленький лорд Фаунтлерой»…
– И Толя так восхищался им… С фронта, в тысяча девятьсот пятнадцатом писал мне: «Я не знаю более прелестного ребенка…»
– Иди прямо на дом – у него квартира почти рядом с Музеем. Женат… писала тебе – одевает жену как куклу, недавно сын родился. Должен же он вспомнить, как бедным студентом его туда папа взял! Продвигал его! Пойдешь? Интересно, как будет… Вы сколько лет не виделись?
– Лет пять-шесть…
…Руку на плечо восьмилетнему сыну, подхожу к тяжелому каменному зданию близ бывшего Румянцевского музея. Парадная лестница. Высокие двери. Притишая сердцебиение, нажимаю кнопку звонка. Эта кнопка, хладная к пережитому, к годам голоданья, к взрыву пороховых погребов, обстрелу берегов из орудий, битвам армий, нападенью «зеленых», высадке «анархистов», привезших – из Турции – на базар орехов и турчанок, предлагая их за недорого в домработницы, кнопка звонка в квартиру Толи Виноградова, любившего меня с моих четырнадцати лет, взрывает во мне не хуже тех погребов пороховых память о юности… Но уже шаги. Отпирают. Силуэт плотной высокой женщины. Говорю, став на пороге:
– Могу я видеть Анатолия Корнелиевича? Он дома?
– Как о вас сказать?
– Анастасия Ивановна Цветаева.
– Сейчас скажу. Подождите.
Уходит. Стою, замерев. Успела увидать полный овал щеки, каштановую прядь. «Что-то милое…» За дверью в комнате гуденье голосов. Возвращается:
– Анатолий Корнелиевич просит вас зайти в кабинет.
Вспыхнув прежним (невидимым сейчас!) румянцем: «Не вышел, не встретил! Смеет меня – официально!» И, не успев додумать, вхожу – рука на плече сына – в кабинет многолетнего друга.
Не хочу обвинить, человека давно нет на свете, – не помню: встал навстречу? привстал? остался сидеть у письменного стола? Помню голос человека, не поднявшего глаз:
– Чем могу служить?
И рука – знакомая рука с длинными холеными ногтями (сколько раз, девочкой, шутила над ним!) перебирает бумаги. И вдруг…
В голове (моей) на мгновенье – смешалось: не узнал? Не расслышал фамилии? Просто не видит меня? Но в настойчивости, с которой не подымалась голова от бумаг, была уже нарочитая дерзость.
Не снимая руку с плеча сына и ни на кого не глядя, слышу мой голос совсем от себя отдаленно:
– Мы недавно вернулись в Москву, я ищу работу Я в Крыму работала в библиотеке, по устройству народных читален. – Передохнула, глотнув слюну Может быть, скажи я ему: «Толя…», дальше не пришлось бы говорить? Но я не могла сказать «Толя» – этому человеку. – Может быть, вы могли бы взять меня на работу? Вы ведаете библиотекой? – Пальцы – шесть лет их не видела, как их узнаю… сколько раз они несли мою руку к губам, для поцелуя – переложили бумагу Человек глядит мимо меня и Андрюши.
– Видите ли, у нас сейчас нет набора работников, штат полон. – Пауза. – Может быть, в будущем…
– Но я ищу работу теперь.
– К сожалению, теперь мне нечего вам предложить. (И в то время как я, уже оживая в юмор, себе: «Аудиенция окончена?» – я слышу из соседней – или соседней с соседней – комнаты тихий колыбельный наплыв. Я встаю. Эта ли напевность размыкает мое состояние потрясенного изумления, рождает в моей интонации свободу и немного игры?)
– У вас, кажется, сын родился, я слышала… Как назвали?
– Георгием.
– А! Из стихов Марины?
Он встает. Я смелею, но все больше насмешливости, хоть и теплой от близости детской.
– Может быть, покажете сына?
– Его сейчас кормят… Впрочем, я погляжу!
Он выходит и тотчас же возвращается. Все держа за плечо сына, я вхожу в большую комнату, где высокая женщина встает, держа ребенка. Из пеленки – посапывающее личико с закрытыми (засыпает) глазами. Улыбка матери. Одно доброе слово:
– Спит…
И моя улыбка, и рукопожатие, и – обертываясь – отца нет в комнате. Как? Исчез, не простясь?