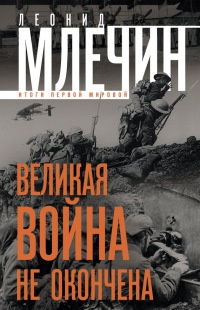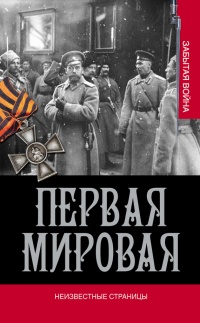Книга Три месяца в бою. Дневник казачьего офицера - Леонид Саянский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Разведчики одобрили единогласно.
Мы быстро дошли до того места, откуда меня обстреливали. И редкой цепью раскинувшись, стали пробираться по лесу.
Чу? Что это… Шорох… Конь фыркнул.
И вдруг дикий, перепуганный крик:
— Halt… — и вслед за ним еще более испуганный — Russen!!
— Бей их! Ура! — затрещал бой. Луна куда-то к черту завалилась, как назло, и настала в лесу такая тьма, что разобрать, где кто кого нашел и бьет, сколько немцев, где моя цепь остальная, кроме трех идущих за мной людей, — было положительно невозможно.
Через десять минут обстановка выяснилась. Мы наткнулись на схоронившийся в болотистом овражке маленький разъезд, человек в двенадцать. Немцы не ожидали, что их так скоро откроют, и потому наше нападение их деморализировало. Пятеро остались под штыками на месте. Остальные бросились кто куда.
За ними побежали мои разведчики. Лошадей немцы побросали всех. Только один отчаянный драгун попытался продраться сквозь лес на дорогу верхом, а не в поводу.
Конечно, лошадь упала в яму и его придавила, но не сильно, ибо когда мы вчетвером побежали к нему, он встретил нас револьверными пулями, поднял лошадь пинком ноги в живот, вскочил в седло и хотел скакать снова; но мы перебегали за деревьями и не выпускали его из овражка, желая взять его живым.
Но в ответ на наши предложения он плевался, как бешеный кот, и стрелял по нашим теням. А лошадь его запуталась окончательно в болотистом кустарнике и стала на месте. Слышно было, как пыхтел сердито всадник и что-то бормотал про себя. Обращаюсь я к стрелкам и шепчу:
— Кто отличный стрелок — жгите его по руке, только полегче, в брюхо не всадите.
— Сейчас, — шепчет один скуластый сибиряк.
Бам! — пруссак выругался, а мы кинулись на склон овражка и окружили его.
Он сидел на замученной лошади и тряс правой рукой перед собою. При нашем приближении он медленно слез с коня и ждал нас. Мы подняли его тяжелый револьвер, выпавший из пробитой руки.
Тогда он мрачно посмотрел на нас и вдруг решительным жестом снял левой, здоровой рукой каску с головы, швырнул ее на землю и с сердцем пнул ногою, с досадливо укоризненным возгласом:
— Эх, Вильгельм! Вильгельм!
Это было так неожиданно и так искренне вырвалось у него, что пленник сразу же расположил к себе солдат. Они ободряли его:
— Не бойсь, не съедим, белобрысый… А это ты правильно… Присягу свою сполнял вовсю, кабы не сдурил с конем, ушел бы… А свово Ваську тоже правильно, потому, кабы не он — сидел бы ты дома у себя чичас, да жену щипал…
— Да, будь он проклят! — вырвалось чисто по-русски у пленника. Мы обомлели.
Он оказался поляком из Познани, долго жившим в России и только с войной из нее выехавшим. Стрелки приняли горячее участие в его плачевной судьбе и, пока мы пли до штаба, подружились с ним вовсю.
В штабе я всех нашел какими-то опечаленными с первого взгляда. Но только с первого, так как со второго они все сорвались с мест и кинулись к мне:
— Да вы целы?
— Не только я цел, но и пленника привел, — говорю.
— А что же эти мерзавцы прискакали и наврали, что вас убили и что вас из-под огня вынести нельзя было?
Я рассказал, как убедительно я орал «стой»!
Трусов ординарцев поставили сегодня «под шашки», а старшего из них, урядника, разжаловали.
Мой пленник дал нам, очень охотно, между прочим, ценные и подробные сведения. По его словам, против нас наступает особый отряд, очень большой; идет он брать крепость Осовец. Сначала все шли вместе под командой генерала Гинденбурга, а вот три дня уже, как разделились, и главные силы, как говорили среди офицеров в прусском отряде, пошли брать город Петербург, уже осажденный, якобы, немецкими десантами, высаженными в Финском заливе.
Пленник, это было видно, не врал, а просто по принятому в прусской армии обыкновению солдат морочили якобы совершенными уже победами, для ободрения духа.
Так, например, было: при каждой действующей армии у них печатается газета для солдат. Но для каждой армии своя. Причем держатся доморощенные редакторы такой системы — в южной, допустим, армии, пишут про победы северной, соседней. А в той — наоборот. И солдаты южной армии серьезно убеждены, что их северные коллеги уже под Петроградом. Ну, а те — что южане уже под Одессой. И бедные немчики задирают нос даже в плену и говорят гордо:
— Все равно выпустите, как Петербург ваш падет.
И смех и грех с ними!
Сегодня лежу отдыхаю. Слегка простудился вчера, проходивши всю ночь в мокром до ниточке белье и платье. Теперь сушусь и греюсь.
Снаружи меховым одеялом, внутри — аспирином. Пора спать. Авось Бог пошлет тихую ночь. Что, если б все бои днем бывали… Хорошо бы!
Кажется, сегодня пятнадцатое… А впрочем, не ручаюсь. При таком положении — немудрено и счет потерять текущим дням.
До сих пор я умудрялся все-таки писать в относительном покое. Сейчас же — идет бой. Мне и моим ординарцам работы почему-то сегодня мало. Вчера зато весь день носились по всем направлениям…
Впереди, в версте от того места, где лежали в лесу мы, — немцы пытаются выковырять нас штыками и огнем с окраины разбитого вдребезги селения. Огонь сильный, но прерывистый какой-то. Должно быть, для перебежек, что часто делают немцы. У нас, наоборот, во время перебежек вперед нарочно развивают адский огонь.
Мы принуждены дать дорогу на Осовец немецким корпусам и отошли к северу. А немцы жмут наш левый фланг, стараясь одновременно и отбросить нас возможно дальше от дороги, чтобы обеспечить свой левый фланг и прижать нас к оперирующим севернее нас своим силам, лезущим через Августовские леса, судя по всему, к Сувалкам.
Если обращать внимание на все мелкие стычки с небольшими партиями немцев, то, во-первых, выходит, что мы деремся чуть ли не десятый день подряд и что немцы проникли всюду — и на флангах и в тылу; все время полкам приходится менять позиции и вести бой впроголод. Где найдем теперь наши обозы! Вокруг много германской конницы, и держать обозы при себе нельзя; они отодвинуты назад. Со стороны Осовца слышен глухой гул; тяжелая артиллерия, должно быть, бьется. Кстати, о ней. В последние дни пруссаки неоднократно посылали нам свои восьмидюймовые подарки. Даже люди с железными нервами с трудом владеют собой, когда около происходить разрыв. Сначала слышен гул полета, и вдруг земля будто бы харкнет вверх бурым пламенем, сизой тучей дыма, осколков и камней. Грохот разрывов в десяти саженях положительно невыносим.
Человек на мгновение теряется совершенно. Не слышит, не видит и не чувствует ничего, весь поглощенный этим тысячепудовым грузом звука.
Часто такие разрывы, не причиняя прямого вреда своими осколками, рвут своим гулом барабанные перепонки, вышибают сотрясением воздуха глаза и заставляют расходиться черепные швы. Все эти повреждения зовутся контузией. И раньше, когда война была для меня нечитаной книгой, я был убежден, что контузия — это форменный пустяк. А теперь согласен с нашим общим мнением, что лучше любая рана, кроме живота, понятно, чем сильная контузия.