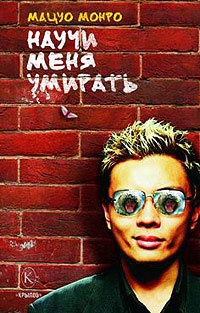Книга Свое время - Александр Бараш
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Понятно, что «просто» глубокая провинциальность (можно это и так рассматривать, без политических и даже социальных коннотаций) советской жизни брежневского времени – и бытовая, и духовная – несравнима с кромешностью предшествовавших ей лагерей. Но вся основа, «базис», и менталитет оставались на месте. И в частности – отмороженность дыханием той вечной колымской мерзлоты, из-за которой априори казалось приемлемым то, что в референтном мире воспринимается как абсурд.
Женитьба – это был способ уйти из дома, не только «топографически», но и социально: из мира «академической» и технической интеллигенции в поиски своего мира. Но сначала – просто хотя бы в другую квартиру. Это произошло. Из своего бэкграунда я все же вышел. Попал – в чужой.
Может быть, дело в том, что попасть туда, где я очутился, было легче всего. И по внешним причинам, просто статистически, и по внутренним. Это было похоже на то, откуда я вышел, только попроще. Так мне казалось. Своего рода оптический фокус социальной близости. Дедушки и бабушки – из «простых», родители – первое поколение интеллигенции, мы – гуманитарные студенты – второе…
Вспоминается отчего-то сценка на тель-авивском пляже. Длинноногая красавица-блондинка идет по кромке прибоя, в шлейфе провожающих взглядов, за ней семенит маленький кукольный песик. Принцесса пляжа в какой-то момент оборачивается с боттичеллиевской улыбкой к собачке и бросает на чистом русском языке: «Шарик, блядь…»
Моя юная жена – ей тогда было вообще девятнадцать – на самом-то деле тоже хотела выломиться из своей «ниши». Но ее хватило только еще на несколько лет – первые года три-четыре нашей общей жизни.
Так или иначе – в этом мы сначала совпали.
И еще у нас был уговор: если я написал новые стихи ночью, то бужу ее.
Ночь. Раскладная кровать посередине комнаты, освещенная заоконным светом, купол неба над гольяновским прудом.
Дождь моросит
задевая балкон
Отмерцали такси
Все зеркально кругом
И краплен с давних лет
светлой тьмой и дождем
сверху вниз как валет
я в тебе отражен
Это влажная ложь
сон скользящий во сне
Это вкрадчивый дождь
твоих губ на виске
На следующее утро после свадьбы мы уехали на дачу. «Дача» – это был дом в деревне. Изба, подгнившая с одного бока, со съезжающей толевой крышей и участком, заросшим зонтичными триффидами. На горизонте – лес с кабанами и привидениями.
Дом стоял к лесу передом: крылечко без перил, старая яблоня на границе приусадебных шести соток, забора не было, дальше соседская картошка, колхозные поля и дальний лес. Этот окоем я обходил за два-три часа с блокнотом и шариковой ручкой, в July Morning’s, на самом деле – полдни… ясные и прозрачные, с безграничным горизонтом ожидания только открывшейся взрослой жизни… и приносил стихи.
Там было прощание с семьей, откуда вышел, ушел. Заключив как бы новый союз, «завет» новой семьи…
В глубине той – родовой – жизни светилось, как волшебный шарик, воспоминание о полугоде, что ли, жизни у бабушки в раннем детстве, такая эмблема утробного покоя:
Откроем дверь. Смотри, все как вчера:
Порядок, чистенько. «Маяк» мурлычет в спальне.
А я сижу в окопчике ковра,
Солдатиков подталкивая в спину.
Все скучно и покойно. Как звезда,
В шкафу мерцает вазочка с конфетами.
Ты у меня одна заветная,
Заполненная с верхом навсегда!
Это была тема «потерянного рая». Разыгрывание темы греха тоже было «включено в пакет».
В квартире у бабушки, за стеклом в буфете среди просто хрусталя и фаянса, в самом центре поблескивала-перемигивала открытая, роскошно-мутного полупрозрачного стекла чаша, на пухлой, как у дореволюционных красавиц, ножке. В этой чаше, многоцветными камнями в горстях у сказочной принцессы, лежали дорогие шоколадные конфеты. Главная сладко-мучительная тонкость заключалась не в преодолении одной из десяти заповедей, хотя оттенок был… Но, в общем, если б просто прямо попросил, то скорее всего и так бы дали… Ну, и что за интерес? Самая острота скрывалась в том, что тащить эти трюфеля и мармелад-в-шоколаде надо было, во-первых, незаметно (то есть «кино и немцы», «подвиг разведчика»), а во-вторых, расхищать арсенал соблазна нужно было очень постепенно, не больше чем по одному бесовскому заряду в фантике за раз… конусовидная ли это бомба пепельного цвета (трюфель) или блестяще-черный брикет горлового спазма в яркой фольге (шоколад с начинкой). Все операции завершались успешно, и возмездие никогда не наступило, время для него автоматически завершилось с календарным детством. Так или иначе, но потом, через несколько лет, выяснилось, что снижение уровня конфет в вазочке – естественно, не проходило незамеченным. Бабушка скрупулезно следила за чистотой и порядком в квартире, и изменение необходимых линий, соотношений форм в важнейшей репрезентативной части интерьера, за стеклом буфета в гостиной, чуть ли не с самого начала моей квазидиверсионной активности было зафиксировано любящим противником… Она, как я с ощущением проигрыша в шахматы узнал гораздо позже, тихо, не говоря ни слова, подсыпала понемногу конфет для диверсанта в свою вазочку.
Летом 1985 года за неделю-две уходов в «цветы, и шмелей, и колосья» я написал (наговорил себе и записал в блокнот строчек по двадцать за сессию) поэму «Эпикриз». «Приятель юности приснился мне на днях. / Все та же хилая, с пролысинкой, жена / Открыла дверь, сморкаясь. Он с похмелья / Кряхтел на раскладушке в коридоре… / Он был поэт, под Франсуа Вийона, / Но в переводе на советский слог: / И хочет каркнуть, что твоя ворона, / Но расчихается и с перепугу в стог…» Эта «история болезни» описывала литературную юность – и была прощанием. С «семьей»: чопорностью и зажатостью постакмеистического канона. Тогда же я начал писать еще несколько циклов стихотворений – с называнием – описанием того, что вокруг, и соц-артистским оттенком. Вместо инерционности, клаустрофобии закрытого пространства прекрасных, но готовых форм, где, что ни делай, все равно внутри сказанного кем-то другим, вместо этого – прямое высказывание, какое есть. «Драйв» сродни тому, что в роке… Ощущение – как открывшееся новое дыхание, освобождение.
Идешь себе по Горького – а тут из-за угла
на постаменте черном – зеленая нога
с раздвоенным копытом! Зажмуришься, окстясь,
а это всего-навсего наш долгорукий князь!..
Копыто вроде конское… а вот рука – его,
и не куда-то кажет, а напрямую – во:
там в тереме кирпичном наследники сидят,
за ярлычок друг друга как балычок съедят,
такая ж окись синяя на лбах, носах, кистях…
Идешь себе по Горького – а тут такой ништяк!