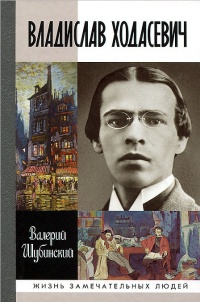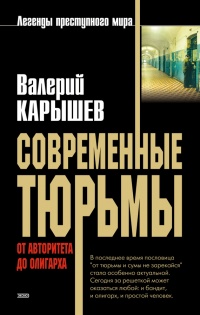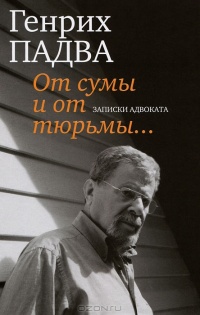Книга Датский король - Владимир Корнев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Судя по тому, с каким интересом вы сюда ехали, господа, я поняла, что по России вам путешествовать гораздо интереснее. Там больше достопримечательностей, красивых монастырей, усадеб, впечатляющих пейзажей. Еще бы — такая могущественная великая Империя!
Звонцов с Десницыным прислушались: что-то еще она сейчас скажет о России?
— Вон видите за окном старинный особняк?
Арсений кивнул из приличия, хотя в темноте мало что можно было разглядеть.
— Так вот, это наследственный дом одного из самых богатых бюргеров, очень уважаемого здесь человека, члена штадтрата[46]. По сравнению с многочисленными усадьбами русских князей и графов — это ничто, скромный домишко. Мне приходилось бывать в Москве и Петербурге, я видела тамошние дворцы и слышала про загородные виллы вроде Архангельского или Останкина — вот где роскошь! Нет, я просто убеждена, что русские гораздо богаче нас, немцев.
Звонцов чуть не подавился от возмущения очередным куском копченого каплуна: «Куда это ее понесло? Судит, сама не зная о чем! Герцогские замки и здесь кого угодно поразят и масштабами, и убранством. Она бы заехала в губернскую глушь и посмотрела, как живут провинциальные дворяне — деревянный дом времен Екатерины да заглохший старый сад, лицемерно именуемый парком. Видела бы мое „поместье“ — того и гляди, рухнет. „Родовое гнездо“ — жалкие остатки былой роскоши! Она, видите ли, знает, что такое Архангельское!» Арсений подумал примерно то же, но предпочел молча доесть свой ужин, Звонцов же с видом превосходства нарочно произнес:
— Что поделаешь — так оно и есть. Наша матушка Россия сказочно богата!
Тут Сеня от неожиданности уронил на пол вилку и сразу потянулся за ней. Никогда не спускавшийся на завтраки, он не знал правил «приема пищи», заведенных в доме Флейшхауэр: все, что упало со стола, принадлежало собаке. Всем постояльцам это было известно, а лучше всего — самой псине. Не успел Арсений нагнуться, как та зарычала и пребольно укусила его за руку. В нем мгновенно проснулась национальная тяга к справедливости, и давняя неприязнь к собаке взяла верх над рассудком. Десницын пнул породистую суку ногой. Тут уже раздался дикий истерический визг оскорбленной до глубины души фрау Флейшхауэр. Поднять… ногу на ее любимицу — да как он смел?! Надо заметить, что Сеня, возможно, и не позволил бы себе такого поступка, если бы перед этим специально для собаки не принесли фунт самой настоящей зернистой икры в хрустальной салатнице — эта жестокость была ответом на кощунство. Со стороны могло показаться, что произошло самое страшное в жизни немецкой прогрессистки, покровительницы искусств, наук и животных. Продолжая визжать, она высказала Арсению все, что о нем думает, видимо, от большого возмущения на чистом немецком, так что даже Звонцов, знавший язык в совершенстве, понял далеко не все. Главное же было ясно и без перевода: Арсений — безжалостное, неблагодарное существо, словом, настоящий плебей. Волосы на голове всегда выдержанной фрау Флейшхауэр стояли дыбом, точно шерсть на ее ощерившейся пассии.
Наконец, закончив визжать, она схватила собаку, как ребенка, на руки (это было совсем не легко, если учесть, что «собачка» была не какая-нибудь болонка или левретка, а, по крайней мере, средних размеров и откормлена до неприличия) и умчалась в Веймар к домашнему ветеринару — нужно же было убедиться, что у любимицы нет никаких кровоизлияний, ушибов или — не дай Бог! — переломов. Русские гости остались в Роттенбурге совершенно одни без крыши над головой, почти без денег и с самым приблизительным представлением о своем географическом положении. Сеня неумело бинтовал руку носовым платком, растерянно ворча:
— Не сдержался все-таки! Не надо мне было ехать, остался бы в Веймаре, может, что-нибудь заработал бы, а так… Ну, шавка, какова — наглая, дрянь, и глупая — чуть вилку не проглотила! Конечно, по европейским понятиям, собака — существо высшее, неприкосновенное. О стерильности и говорить нечего, ни о каких бактериях или там о бешенстве… Что за люди эти немцы? То трогательные, как дети, то тупые и циничные… впрочем, дети тоже бывают злые. В общем, не принимает меня Европа, да и я ее.
В «благородном» Звонцове долго копилось раздражение на самородка-разночинца, но до сих пор он сдерживал свое недовольство, потому что ссора с Арсением, которого он использовал по своему усмотрению, ему была совсем невыгодна, а теперь в один миг прорвало внутреннюю моральную преграду — на голову незадачливого друга посыпались оскорбления и обвинения. Скульптор так завелся, что разом выместил на Арсении обиды за свое ущемленное дворянское честолюбие, за едкие уколы придирчивой немки и даже за плохую погоду:
— Да все наши неприятности именно из-за тебя! Собака ему не понравилась! Мог бы и потерпеть, как будто первый раз увидел балованную псину! Германия ему не по душе — экий славянофил-черносотенец! Да если бы я тебя с собой не взял, ты лудил бы сейчас самовары на заводских задворках и никто бы не знал о твоей исключительной даровитости! Теперь из-за тебя Флейшхауэр вышвырнет нас в два счета на улицу и вообще из Германии, а тогда коту под хвост вся эта поездка и моя учеба! Думаешь, сдал за меня экзамен — и я теперь твой вечный должник? Ты, наверное, забыл про пуговицу, так вот я требую, чтобы ты достал ее хоть из-под земли, не какой-нибудь дубликат (я знаю, с твоими руками сделать такую же ничего не стоит), а именно ту пуговицу, которая осталась в Йене. Понятно? Именно ее ты должен вернуть. А ты уже думал, я это тебе так спущу? Потерял — сумей ответить!
Арсений выслушал обвинения молча — это был не первый раз в жизни, когда за добро ему платили неблагодарностью. Кельнер подошел со счетом к скульптору, видимо, по грозному, требовательному тону его речи угадав, что только он в состоянии заплатить за странную русскую парочку. Звонцов пробежал счет глазами, открыл портмоне, после чего последовала напряженная пауза. Арсению пришлось доплачивать за ужин, а потом на последние остававшиеся деньги он взял с собой бутылку недорогого здесь рейнвейна и вышел на темную улицу. Звонцов последовал за ним: честно говоря, побаивался остаться в этой глуши один и уже сообразил, что наговорил много лишнего, забыв старую пословицу о колодце, в который плевать не следует. Десницына он догнал уже на улице (тот побрел в полумрак средневекового квартала, куда глаза глядят), остановил его за плечо:
— Ну, куда ты сейчас пойдешь? Все равно заблудишься. Флейшхауэр — женщина отходчивая, может, еще вернется за нами. Давай ждать ее здесь — не дури!
Арсений решительно отстранил его руку и устало проговорил:
— Оставь меня, Звонцов. Хотя бы до утра оставь. Я пойду пройдусь, а ты и верно сиди здесь — может, приедет.
Всю ночь художник провел в каких-то бессмысленных блужданиях по узеньким улочкам ветхого городишки. В темноте, чуть не на ощупь, Сеня исходил его вдоль и поперек, прихлебывая из бутылки. Несмотря на то что Йена осталась не в одной сотне верст отсюда, события злосчастного дня, проведенного в университете, не желали оставлять Десницына, и никакие новые впечатления, включая отъезд разгневанной меценатки, не смогли вытеснить их из памяти. Особенно его тяготило, что некому открыть душу, не с кем поделиться — капризный и эгоистичный Звонцов наверняка понял бы Арсения превратно и уж точно не посочувствовал бы, что только доказал случай с пуговицей. Признаться кому-то другому (хотя бы Флейшхауэр) или явиться прямо в полицию в качестве свидетеля (все указывало на то, что в библиотеке совершилось некое преступление), юноша попросту боялся. Теперь Сеня с особенной силой ощутил, как чужда ему Германия. Сам он, пребывающий в этой стране на птичьих правах, в двусмысленном статусе «друга художника Звонцова», всем здесь чужой! Нестерпимо захотелось домой. Подумалось: «Ностальгия, оказывается, болезнь, и у нее тоже случаются приступы… Только лекарства не существует».