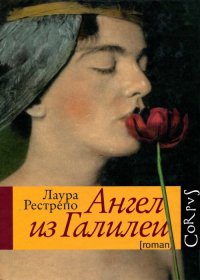Книга Каменный ангел - Маргарет Лоренс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Тон его меняется, он больше не говорит резко, съедая концовки фраз.
— Что Джон? Что ты хотел сказать?
— Не буду об этом. Не время.
— Не будешь? Тогда слушай: он бы так со мной не поступил, ни за что не поступил.
— Думаешь? А с отцом, значит, он обошелся благородно?
— Он был с ним, — говорю я. — Он хотя бы к нему поехал.
— О Господи, ну да, — тяжело говорит Марвин. — Поехал, поехал.
— Марв… — встревает Дорис. — Ну куда вас понесло? И так тяжело, а они еще старое поминать взялись.
Действительно, старое.
— Я сыта вами по горло. Я не поеду. Не поеду я туда. Моего согласия вы не получите.
— На следующей неделе ты идешь к врачу, — говорит Марвин. — Не хотим на тебя давить, мама, но если доктор Корби посчитает, что так лучше…
Могут ли они меня заставить? Я перевожу взгляд с одного на другого и понимаю, что в борьбе со мной они едины. Лица их выражают твердую решимость. Я уже не уверена в своих правах. Как здесь правильнее поступить, какие у меня права? Можно ли нанять против сына адвоката? Где его найти? В телефонном справочнике? Как давно я не занималась такими вопросами.
— Вынуждая меня, вы подписываете мне смертный приговор — надеюсь, вы отдаете себе в этом отчет. Я не продержусь и месяца, даже недели, так и знайте…
Гром моего голоса приковал их к месту. И вот, когда победа уже близка, я даю слабину. Вся моя туша сотрясается, жир на ребрах скачет вверх-вниз, из глаз позорно хлещут слезы.
— Как мне оставить мой дом, мои веши? Это низко, это подло, за что вы так со мной?
— Не надо, мама, — говорит Марвин.
— Ладно, ладно, — говорит Дорис. — Успокойтесь.
Немного придя в себя, я вижу сквозь веер пальцев, что напугала их. Вот и хорошо. Поделом им. Надеюсь, они напуганы до смерти.
— Давай пока закроем вопрос, — говорит Марвин. — Посмотрим. Поживем — увидим. Не расстраивайся так, мама.
— Я надеялась все решить, — блеет Дорис.
— Черт возьми, уже почти полночь, — говорит Марвин. — Мне завтра на работу.
Она видит, что поезд ушел, и старается сделать хорошую мину при плохой игре, заботливо взбивая мои подушки.
— Сейчас вам надо хорошо отдохнуть, — говорит она мне. — Остынем маленько, тогда и решим, что делать.
Марвин уходит. Она помогает мне надеть ночную рубашку. Как же противна мне эта необходимость держаться за ее руку, позволять ей стягивать с меня платье, расстегивать и снимать корсет и видеть мою опухшую плоть в синих венах и покрытый волосами треугольник, бессмысленно-упрямо доказывающий мою уже бывшую принадлежность к женскому роду.
— Спокойной ночи, — говорит она. — Приятных снов.
Приятных снов. Какие могут быть сны после такого? Я ворочаюсь. Как ни повернись, все неудобно, глаз не сомкнуть. Постепенно я все глубже и глубже проваливаюсь в туман или дурман полусна. Вдруг меня настораживает одна из теней, обитающих в сером мирке, где я отчаянно молю сон сжалиться надо мной. Мокрые, зловонные простыни, внушает мне тень голосом Дорис.
Я решаю не спать, боясь возможных последствий, и вот тут-то меня начинает одолевать сон. Я борюсь с ним, гоню его прочь, я кручусь и верчусь, чтобы только не поддаться. Добиваюсь я лишь одного: в ногах начинаются судороги, скручивающие пальцы в узлы. Надо встать с кровати. Я не могу найти лампу на тумбочке. Осторожно водя пальцами в воздухе рядом с кроватью, я ничего не нащупываю. В отчаянии я машу руками в темноте, и тогда лампа опрокидывается и разбивается, как упавшая сосулька.
Прибегает Дорис. Она включает свет в коридоре; приподнявшись на локтях, я вижу, что в бигуди она выглядит ужасно.
— Боже правый, что опять стряслось?
— Ничего. Ради всего святого, Дорис, не кричи так. Аж барабанные перепонки болят. Твой голос режет не хуже ножа. Это всего лишь лампа.
— Вы ее разбили, — причитает она.
— Что ж, купи новую. Купи десять штук, в конце концов. Тебе-то что за забота, деньги-то мои. Послушай, мне надо встать, у меня судороги. Помоги мне, Бога ради. Видишь же, что мне больно. О Господи… ну вот. Так-то лучше.
Мы стоим на коврике у кровати, два упитанных привидения, сцепившихся в борьбе, и наши розовые атласные рубашки развеваются, пока я топаю ногами, разрабатывая мышцы. Она пытается снова запихнуть меня в постель, но я сопротивляюсь, навалившись на нее в ночном мраке.
— О Боже, ну а теперь-то что? — вздыхает она.
— Не твое дело, иди спать. Мне надо в туалет.
— Я вас отведу.
— Даже не думай. Уходи. Сейчас же. Оставь меня в покое.
Оскорбленная, она уходит, демонстративно включая по пути все лампочки наверху, как будто я и дороги в туалет в собственном доме не найду.
Вернувшись в комнату, я не сразу ложусь. Я оставляю верхний свет и устраиваюсь за туалетным столиком. Он из черного орехового дерева — не из массива, конечно, но все же он обшит приличным слоем дерева, а не шпоном, которым нынче обклеивают мебель. Я беру одеколон и слегка смачиваю им запястья и шею. Закуриваю сигарету. Нужно не забыть погасить ее, как положено.
Я заглядываю в зеркало и вижу опухшее лицо с темно-синими венами, точно кто-то разрисовал его несмывающимся карандашом. Кожа — серебристо-белого оттенка, цвета морских тварей, обитающих на большой глубине и не знающих солнечного света. Под глазами — круги, как будто я приложила к векам мягкие черные цветочные лепестки. Волосы, которым полагается быть черными, почему-то изжелта-белые, как льняное полотно, долго пролежавшее в сыром подвале.
Да уж, Агарь Шипли, хороша ты, нечего сказать.
Помню, как мы однажды поссорились с Брэмом. Иногда он сморкался на землю — весьма сложный был трюк, кстати. Возьмется за переносицу большим и указательным пальцем, наклонится, сморкнется с напором, и вот уже словно змеиный плевок пузырится на траве, а он вытирает руку о рабочую одежду — чуть повыше пятой точки, и всегда в одном и том же месте, как оказывалось во время еженедельной стирки. Я не раз предельно ясно выражала ему свое отвращение. Это продолжалось годами, но слова мои уходили в песок. Он просто говорил: «Брось брюзжать, Агарь — ничего нет хуже сварливой бабы». Без грубости он ни одной мысли не мог выразить. Он знал, как это меня бесило. Потому и продолжал гнуть свою линию.
И все же — вот вам парадокс — мы выбрали друг друга именно за те качества, которые, как оказалось, на дух не переносим друг в друге: он меня — за мои манеры и грамотную речь, а я его — за презрение к ним. В тот раз, однако, он повел себя по-другому. Пожал плечами, обтирая руку от слизи, и ухмыльнулся.
— А знаешь, Агарь? В Манаваке все называют жен не иначе как «мать». Вот я ни в жисть тебя так не назвал.
Это была правда. Ни разу он не позволил себе такого. Для него я была Агарь и осталась бы Агарью и сейчас, будь он жив. Теперь я понимаю, что он был единственным человеком из всех моих близких, кто звал меня по имени: не дочерью, не сестрой, не матерью и даже не женой, а всегда — Агарью.