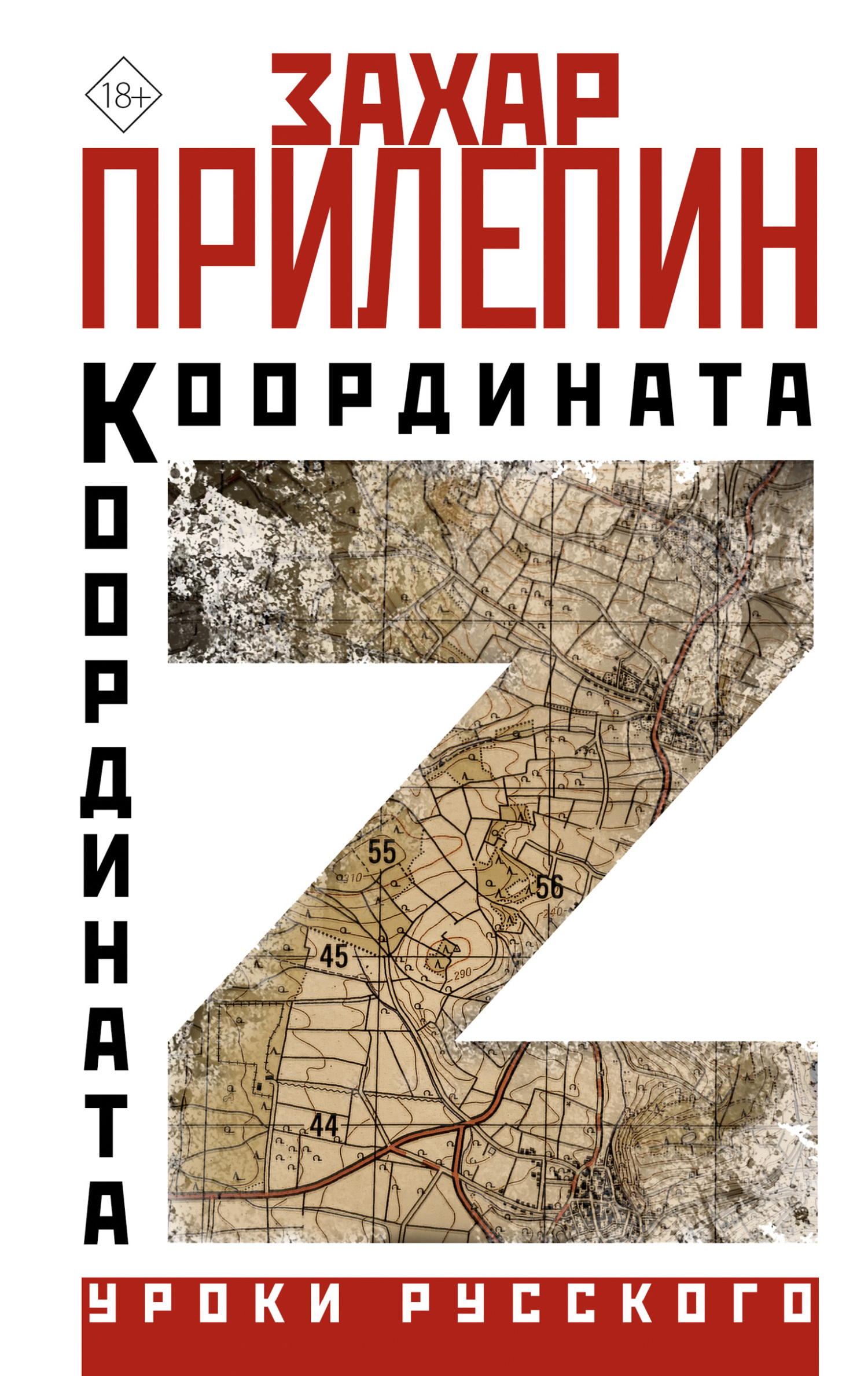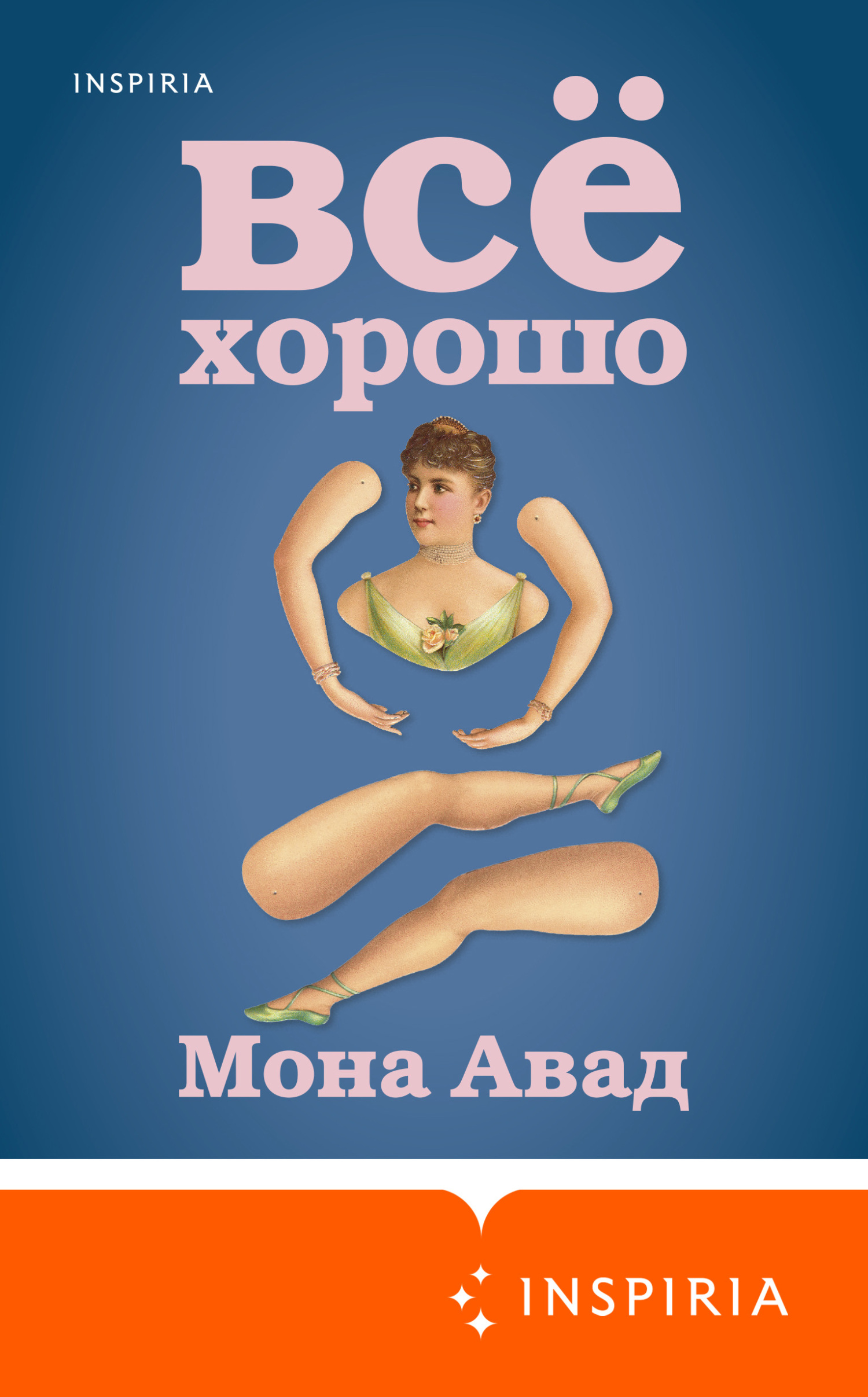Книга Ни океанов, ни морей (сборник) - Евгений Игоревич Алёхин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вышел из метро и не сразу нашел остановку. Но потом вспомнил и побежал, догнал трамвай и запрыгнул. Расплатился, и денег у меня не осталось. Но это оказался не тот трамвай, я это понял, когда он свернул не туда.
И я вышел. Дремучий лес, и никаких ориентиров. Нас просто бросают в эту жизнь, как параноика Эрнеста, и дождь смывает клей, на который приклеены волосы к нашей груди, и клей с волосами текут по пузу, не предвещая ничего хорошего. Мне придется идти час пешком. Отдохнуть, а потом помочь перевезти вещи из Петергофа Сперанскому. Я должен поспать. Так я шел, не приспособленный ни к чему. Когда я увидел компанию гопников по курсу, я перешел на другую сторону. Сегодня я боялся всего. Философские вопросы выпотрошили мне кишки.
Добрался. Почти потерял день. Уже почти четыре.
Сначала хотел зайти не в тот подъезд, но потом до меня дошло, я вспомнил номер квартиры. В лифте пахло мочой, как небо синее, а трава зеленая.
Ключ подошел.
Я был дома, мне удалось спастись. Мне нужно было срочно помыться, срочно зависнуть в ванной, и все наладится.
Разулся и открыл сумку, чтобы достать гель и зубную щетку. Но флакон открылся, гель вытек и залил книги и мои чистые трусы и носки. На ноутбук, слава Богу, не попало, он был в другом отделе.
Я бросил книги на стол, носки и трусы на пол.
Нужно их постирать.
Сумка пахла как кусок мыла.
Вытащил протекший флакон. Стоял и пялился на него. Стоял и пялился, я не знал, что мне с ним делать. Я вдруг забыл все. Все, чему учился в течение жизни, не имело смысла. Выронил необходимый фрагмент пазла. Мой мозг не мог отправить подходящую команду, дать телу верное распоряжение.
Сигнал потерян, сигнал потерян. Я не знал, как людям удается справляться. Не знал, как надо реагировать на этот пролитый флакон. Я больше никогда не буду счастлив. Этому парню больше не давать! Я не смогу жить. Все мечты обречены. Как облегчить страдания? Я не умею быть счастливым, мне нужно срочно работать. Я не могу думать. Рука моя стала липкой от геля. А я стоял посреди чистого поля и смотрел на флакон Palmolive for men, а ледяной ветер забирался под одежду и дальше, под ребра. Я висел в открытом космосе, меня скрутили, я пустышка, машина пережевала меня, ничего не оставив, от меня уже ничего не осталось. Машина уничтожила человека. Через две недели мне исполнится двадцать три года, и неважно, допишу ли я роман, добью ли я последние десять страниц или нет, поставлю я себе укол, чтобы не пить год, или полгода, или три года, ничего не имеет значения, ведь я даже не знаю, что мне делать с этим флаконом. Двадцать три года, я мог бы быть отцом или директором магазина, молодым бизнесменом или начинающим политиком, пикапером или верным мужем, и мог бы уже умереть от СПИДа или даже стать известным актером, но это все было бы неправдой; люди всю жизнь только и делают, что прикидываются кем-то, и я не знаю, что с этим делать, как ни верти, а ничего с этим нельзя поделать. Что, я должен его себе в задницу засунуть, этот флакон?
Это крик, я кричу о помощи. Помогите мне.
Естествоиспытатель
1
Меня разбудили шум, возня и споры за открытым окном. Вернее, я уже не спал и еще не бодрствовал, когда услышал звуки потасовки. До этого лежал, чувствовал приближение дня, чувствовал, что нужно находить силы что-то делать, зачем-то продолжать дальше барахтаться и ныть. Вчера Сигита не поехала ко мне, и, как только я начну день, придется столкнуться с этим: теперь мы не вместе, и больше я не прощу ее. Сколько можно морочить мне голову, пусть найдет себе какого-нибудь жирного тупого кретина и морочит ему голову, такое мнение у меня было на этот счет.
— Ну-ка! Ну-ка, дай сюда телефон! — орал кто-то за окном. Орал и притом таким тоном, как будто воспитывал. Обладатель этого голоса и тона был учителем труда на пенсии, не иначе. Очень я не люблю этот тон, услышал его и обнаружил, что проснулся. Голос этого пидораса создал меня, извлек из небытия. Как оказалось, я уснул прямо на полу при открытом окне, не снимая одежды. А ночью стало холодно, и я укутался в покрывало, которое тоже валялось на полу. Теперь я резко откинул покрывало и встал.
Стоял между занавесок и смотрел на задний двор. На дороге под моим окном толкались двое: пожилой советский гражданин с зонтом в руках и молодой гастарбайтер. Обычный узбек, может быть. Он был в спортивной куртке с нашивкой «BMW»… А может, и не узбек, я не очень в этом разбираюсь.
— Не трогай мэня, — сказал он совку.
Склока происходила на дороге под самыми моими окнами. Они спорили и топтались по страницам распечатки моего романа, которую я несколько дней назад выкинул в окно.
— Я тебе повторяю. Пошли со мной, — сказал совок, пока тянул узбека в сторону. — Сейчас пойдем с тобой в отделение. Шустрый такой нашелся!
Узбек резко скинул с себя руку совка и зло сказал:
— Иди ты в жеппу, а?!
И попытался пойти в сторону, обратную той, куда его тянул совок. Но совок снова схватил его и крикнул:
— Я тебе повторяю, пошли в отделение!
А я стоял спросонья и смотрел из окна. Вернее, я лежал, привязанный к рельсам, и ко мне мчалось с шумом и страшным скрежетом осознание того, что с Сигитой у нас все кончено. Она меня предала. Когда я вчера позвонил, оказалось, что она не в поезде и не едет ко мне.
И теперь я был один в квартире, Сперанский уехал в Москву на пикник журнала «Афиша», мое утро должно было начаться с любимой женщины, а началось с двоих полудурков и их ничтожной членососной ссоры за окном. Все это высохшего говна не стоило, как они этого не понимали.
И мне они оба были несимпатичны, но все-таки совок был больше. Поэтому вдруг я крикнул сверху:
— Сто рублей на черного! Совок говнюк!
Они на секунду замерли, прислушиваясь. Думали, показалось им это или не показалось. Это глас Божий, ребзя. Совок огляделся,