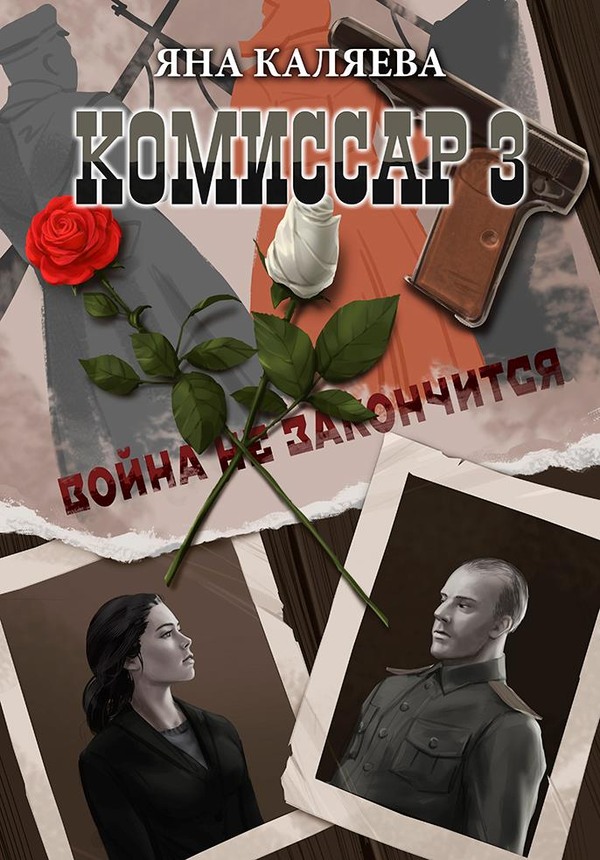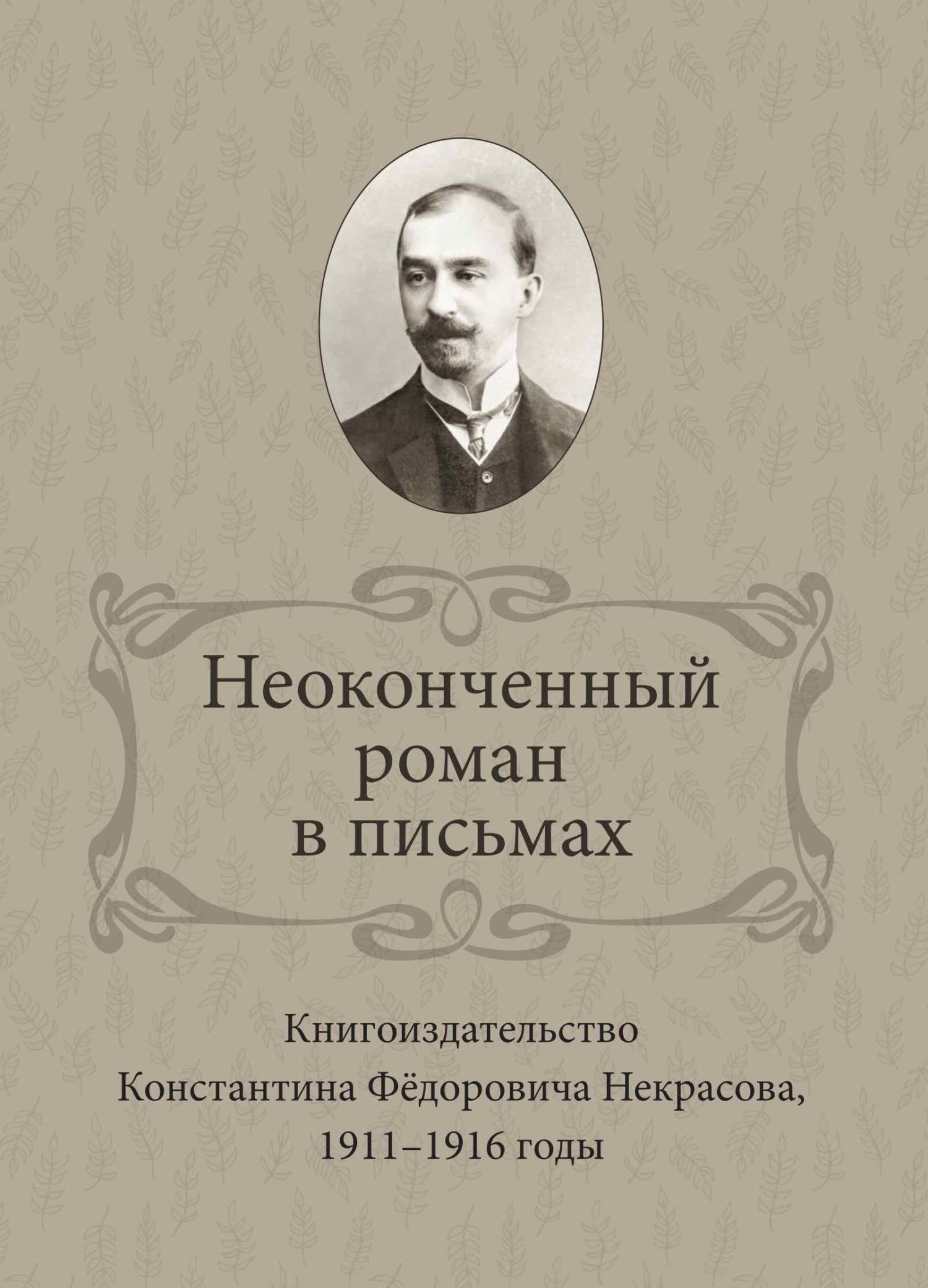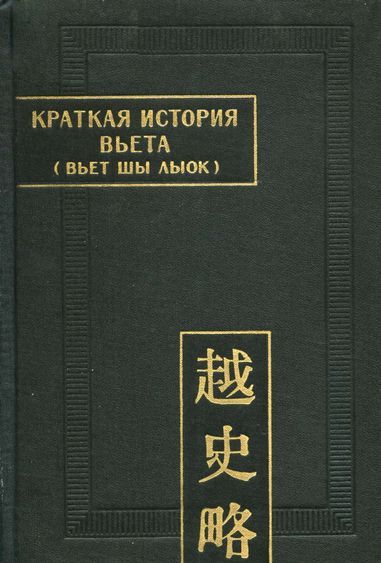Книга Наброски пером (Франция 1940–1944) - Анджей Бобковский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мы становимся по порядку перед дверью. Два часа ожидания, пока откроются кассы. Пробило пять часов, и в тот же момент глубокая утренняя тишина была нарушена стуком и топотом. Все ворота домов вокруг вокзала одновременно открылись, и из них вылетели участники соревнования. Слышен топот и стук деревянных подошв, появляются первые, тяжело дышащие, задыхающиеся. Через пять минут в очереди за мной двести человек. Теперь спокойствие продлится до прибытия первого поезда метро. Тем временем съезжаются спортсмены-велосипедисты. Жужжат велосипеды. Гонка продолжается до конца: велосипед бросают на землю или у стены и бегут к очереди. Уверен, здесь ежедневно бьют рекорды в велосипедном спринте.
Вдруг раздается топот сотен ног. Метро, как гигантский гейзер, выбрасывает поток людей. Первый поезд. Плотная масса, вытекающая из-под земли, течет и заливает длинный пандус. Через несколько минут за мной выстраивается длинный хвост из двух тысяч человек. Они будут стоять здесь до вечера. Полицейские ходят вокруг, улаживая споры и ругаясь с теми, кто просто скандалит, не имея возможности излить свою ярость на кого-нибудь другого. Разумеется, о протоколах об оскорблении власти и речи нет. Ярость толпы справедлива: каждому казалось, что он будет первым, и теперь он не понимает, каким чудом перед ним оказалось столько людей. И полицейские это понимают. Лучше пусть один, другой просто поскандалит, чем усмирять драки…
Открываются кассы. Полицейский отсчитывает 15 человек и впускает в святилище. Я подхожу к кассе моего направления Париж — Брест, прошу два хороших места (вкладывая в маленькую ручку мадемуазель 20 франков) и сразу получаю два места у окна вместе с приятной улыбкой в качестве бонуса. Так теперь везде. Все дают и все берут. Это не взятки. Это cadeaux — подарки. Они создают близость, отношения между служащим и клиентом мгновенно переходят в приятельские отношения, и в другой раз к служащему можно обратиться уже как к знакомому.
Я отхожу от кассы и вижу, что толпа смеется и поет, а полиция оживленно дискутирует с людьми. Я спрашиваю, в чем дело. Слушаю и не верю. Полицейские, пришедшие утром на смену, принесли отличную новость, новость совершенно невероятную: Муссолини подал в отставку!!! И вдруг в очереди, среди смеха и шума, кто-то пропел сочиненную тут же на мелодию тарантеллы песню: Duce, Duce a démissionné, Duce, Duce on aura la paix…[744] Толпа подхватила слова и мелодию и, казалось, разразилась радостью. Все презрение народа, который всегда был свободен, народа, для которого свобода — суть жизни, какой бы она ни была, отразилось в насмешливой песне, высмеивающей «Цезаря фашизма»{73}. В ней не было ненависти — чувствовалось только неописуемое презрение. Презрение толпы к шуту, которого еще вчера она вынуждена была считать божеством. Одновременно чувствовалось, что Муссолини здесь никогда не воспринимался всерьез. Уверен, что такая же новость о Гитлере вызвала бы другую реакцию. Гитлер — шут, но, к сожалению, шут трагический, зловещий. Толпа пела, а проходящие мимо немцы делали вид, что не понимают. Каждого из них провожали тысячью насмешливых взглядов. Я вышел из здания. Мне нравится площадь перед вокзалом Монпарнас. Солнечное утро. Я зашел на бокал белого вина. Мне хотелось сесть на пороге рядом с большим котом и греться на солнце. Сидеть и смотреть тем взглядом, когда только смотришь и не думаешь. У Дюпона напротив играл автоматический граммофон, и Даниэль Дарьё пела «Premier rendez-vous»[745], по бульвару на велосипедах, перебирая стройными ногами, мчались разноцветные девушки. Я взял кота на колени и, наклонившись, прошептал ему на ухо: у меня есть билеты, а Муссолини больше нет.
29.7.1943
Сначала написали, что Дуче ушел в отставку по состоянию здоровья. Однако позже выяснилось, что он был смещен Большим фашистским советом. Власть передана королю, Бадольо{74} создал правительство, и сегодня фашистская партия была распущена. Люди не особо осознают чрезвычайное значение этого факта. Они смотрят на него только со стратегической точки зрения. Между тем они не видят главного: это одно из крупнейших идеологических банкротств, какие видел мир. Это не крах правительства, того или иного режима, это крах идеи, которая в течение двадцати лет господствовала в Италии, на которую ориентировались почти все страны послевоенной Европы, которая вдохновляла Германию, Испанию Франко, Турцию, нас. Казалось, быстрый крах ее невозможен. Рухнула она за несколько часов. Сегодняшний день заставит фашистов и всех верующих в «единственно верные идеологии» во всем мире пересмотреть свои ценности. Это крах религии, как если бы папа римский распустил церковь. А может, и больше, учитывая обстоятельства. Банкротство идеи, из-за которой за последние четыре года гибли сотни тысяч людей.
Как пророчески звучат сегодня слова великого гуманиста двадцатого века Гульельмо Ферреро, которого фашисты вынудили эмигрировать и который в 1926 году в своем прекрасном исследовании «Entre le passé et l’avenir»[746] писал, что, когда почти все монархии пали после прошлой войны, «только фашизм, вместо того чтобы свергнуть монархию, взял ее в плен, вынудив взять на себя абсолютную власть в надежде, что он сможет воспользоваться ею: мы увидим однажды, хорошо ли он все рассчитал».
Сегодня мы видим, что фашизм просчитался.
Л’Этр Клеман, 2.8.1943
Я лежу в постели, на ночном столике горит лампа. Остальная часть большой комнаты тонет в полумраке. У стены черная скамеечка для стояния на коленях, над ней распятие. Огромный бретонский шкаф с железной фурнитурой. В углу стул, на нем мундир гусара девяностых годов. Мундир мужа мадам Базен. Окно приоткрыто, туманная ночь, влажная от дождя, который шел весь день. С деревьев, с ветвей, касающихся окна, медленно стекают капли тумана и ударяются о металлическую фрамугу. В саду, в лесу за рекой смеются совы. Где-то упала спелая груша и шлепнулась на землю.
В этом доме, в этой