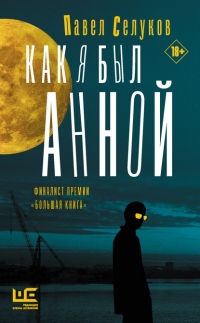Книга Дочери смотрителя маяка - Джин Пендзивол
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Тебе что-нибудь нужно?
— Добрая порция виски в этом молочном коктейле очень бы меня осчастливила.
И так далее. Они сидят не больше получаса, а потом наггетсы находят покой в мусорном ведре рядом с диваном, последнюю игрушку бросают в рюкзачок «Hello Kitty», и мистера Андроски катят обратно в его комнату, пока он, причмокивая, допивает молочный коктейль. Я с трудом терплю этот ритуал, но втайне завидую мистеру Андроски.
У меня нет семьи, и некому меня навещать. Нет еженедельных гостинцев в виде с трудом усваиваемого фастфуда, никто не спрашивает, хорошо ли я себя чувствую на этой неделе и не нужно ли мне чего-нибудь. Только в такие моменты, когда я нахожусь на периферии жизни мистера Андроски, мне кажется, что мне чего-то не хватает. Эмили была моей жизнью. Да, какое-то время был еще Чарли. Но я не могла заставить себя связаться с ним. Я не могла простить ему его необоснованных действий или принять от него извинения, даже если бы он захотел извиниться. И я не сожалела о тех вещах, которые он не простил. Так что мы жили во взаимном изгнании. Он никогда не был нами принят, ни при чем не присутствовал, но его тень все время висела над нами. Мы были так близки, наша троица; он был нашим чемпионом, а мы — обожающими его поклонниками. Но темнота поглотила нас, и когда мне пришлось выбирать, я выбрала Эмили.
Что ж, Чарли, ты забрал дневник за 1925–1929 годы. Что, произошедшее в те годы, заставило тебя выйти из своей хижины в лесу и заглянуть в мой новый дом после стольких лет, после всего недосказанного, только ради того, чтобы молча постоять в углу? Ты мог вернуться к озеру, на Порфири. Мог говорить с ветром и волнами, встречаться с призраками, которые бродят по каменистым пляжам, чтобы раскопать секреты прошлого, вырыть папины заглушенные слова. И все же ты не смог заговорить со мной.
Девушка прерывает мои размышления. Она ждала, пока я свыклась с мыслью, что одного из дневников нет.
— Хотите, чтобы я продолжила читать?
— Если тебе без разницы, Морган, то, думаю, на сегодня достаточно.
Я встаю.
— Мистер Андроски. — Я приветственно киваю, повернувшись в его сторону, выдавливаю улыбку.
— Мисс Ливингстон. Вам не обязательно уходить. Тут хватит места для всех нас. Надеюсь, вы не против поздороваться с новым морским другом Бекки.
— Все в порядке, мистер Андроски. Мы закончили и все равно собирались уходить. Приятного вам времяпровождения.
Морган
Она пытается не показывать этого, но отсутствие одного из дневников расстраивает пожилую даму. Я снова складываю тетради в стопку и заворачиваю в ткань. Маленькая девочка подсаживается ко мне.
— Ты почитаешь нам сказку?
— Возможно, в другой раз. — Я беру связку и встаю.
— Твоя бабушка хочет картошки фри?
Я смотрю вниз, на девочку. Ее тонкие каштановые волосы выбились из-под заколок в форме бабочек и лезут ей в глаза. Она поджала ноги под себя, в одной руке держит пластиковую игрушку Немо, а в другой — влажный ломтик картошки фри.
— Моя бабушка?
— Да. Папа говорит, что дедушка не может есть картошку фри. У него повыпадали все зубы, и теперь он только пьет молочные шоколадные коктейли. Может, твоя бабушка хочет немного моей картошки? Или у нее тоже повыпадали все зубы?
Я смотрю на пожилую даму, которая уже скованной походкой идет по коридору, одной рукой придерживаясь за перила, проходящие по всей длине стены. Я не могу разобрать выражения ее лица. Она прячет свое разочарование и кажется равнодушной, но я-то знаю, что ее обуревают эмоции. Могу поспорить, она была сущим наказанием в молодости. До того, как ее волосы побелели и морщины выгравировались на лице. До того, как эти тревожные карие глаза помутнели.
— Она не моя бабушка, — отвечаю я. — И у нее все в порядке с зубами. На самом деле… — я наклоняюсь к девочке и шепотом продолжаю: — …мне кажется, что она может быть акулой. Рот, полный больших старых зубов. — Я делаю вид, что дрожу. — Лучше спрячь Немо!
Она визжит в притворном ужасе и бежит к дедушке, прячется за кресло. Я догоняю мисс Ливингстон и подстраиваюсь под ее шаг. Уголки ее губ приподняты в намеке на улыбку, и она наклоняется ко мне, шепча:
— Немо — всего лишь легкая закуска. У меня от него только разыграется аппетит.
Черт, она все слышит!
Кажется, она, помимо моей воли, начинает мне нравиться.
Элизабет
— Женщина сидит в кресле на пляже. Ее лица почти не видно за тонкой вуалью. Сильный ветер раздувает ее юбки, образует белые гребни на волнах и наполняет паруса лодки на горизонте. Она держит в руке зонтик.
— Ее зонтик откинут назад или она держит его над головой? — спрашиваю я.
Марти сидит за столом в моей комнате, попивая кофе. Мы играем в эту игру в последнее время, когда у него есть возможность оставить свои инструменты и провести пару минут с пожилой дамой, вернув цвета в серый туман ее невидящих глаз.
— Назад.
— Моне, 1870 год. «Камилла на пляже в Трувилле».
Он перелистывает несколько страниц.
— Большое собрание людей, пары танцуют на улице, и лучи солнца, пробиваясь сквозь кроны деревьев, создают интересную игру света и тени. Главный акцент картины не на группах людей, а на танцующей молодой паре. Такое впечатление, что ты видишь, как колышутся юбки женщины, когда она кружится.
— Ренуар, 1876 год. «Бал в Мулен де ла Галетт».
— Стог сена…
— Пожалуйста, Марти. — Я не даю ему закончить это описание. — Не подыгрывай мне.
— Да, да, конечно. — Он перелистывает еще несколько страниц. Я знаю, что он улыбается. — Вот. Повторяющиеся закрученные узоры, нарисованные короткими мазками, синими, индиго и фиолетовыми, с кругами золотого и узкими полосками от света оранжевой луны. Внизу, в долине, находится деревня, у церкви тонкий шпиль, она белая.
Это одна из моих любимых картин по многим причинам, и я могу ясно ее представить из его описания.
— Разве не досадно, что гениальность художника так близка к безумию? — говорю я. — Разве для того, чтобы постичь красоту, Марти, нужна измученная душа? Чтобы видеть и говорить правду?
Я теряюсь, погрузившисьсь в свои мысли, и мы сидим в тишине.
Я поняла, что большинство из нас… мы просто зрители жизни. Те же, кто позволил демонам войти в их жизнь, засыпать и просыпаться с ними, кто позволил шептать им себе на ухо, они — архитекторы жизни, построившие мир таким, каким мы его знаем. Но при этом, а может, и из-за этого, они ходят по тонкой грани между позором и почитанием. Кто решает, когда они перешли от мученичества к таланту, чтобы стать признанными и увековеченными? Когда нам начинает нравиться то, что видят наши глаза и слышат наши уши? Гениальность и безумие. Что порождает что?