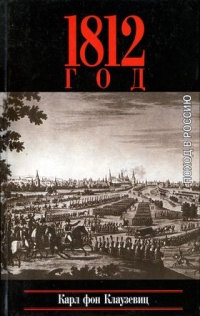Книга 1812. Фатальный марш на Москву - Адам Замойский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Наполеон принял единственное разумное в сложившихся обстоятельствах решение. Он твердо вознамерился поспешить вернуться в Париж, находясь там, своевременно собрать новую армию с целью выступить на врагов весной и не только восстановить контроль над Центральной Европой, но и нанести поражение русским. Император французов пребывал в сомнении, кому поручить командование остатками Grande Armée. Он предпочел бы принца Евгения, но осознавал, что, если поставить того над Мюратом, король Неаполя чего доброго взбунтуется, а потому выбрал последнего[215].
Принц Евгений вовсе не пришел в восторг от такой перспективы и попросил разрешения отбыть в Турин, но Наполеон напомнил ему о воинском долге. «У меня нет никакого желания служить под началом короля Неаполя, который принял командование над армией, – писал вице-король Италии жене на следующий день. – Но в сложившихся обстоятельствах отказаться было бы неправильно. Мы вынуждены оставаться на постах, плохи они или хороши». Бертье тоже хотел уехать – отправиться в Париж с императором, но Наполеон ничего даже слышать не захотел. «Мне-то прекрасно известно, что от вас тут никому нет проку, – резко отозвался император, – но другим – нет. К тому же ваше имя производит определенное воздействие на армию»{898}.
Вечером 5 декабря в Сморгони Наполеон собрал всех маршалов и, согласно определенным данным, принес извинения за излишнее продолжительную задержку в Москве. Он поставил подчиненных в известность о принятом решении, после чего, выслушав их, сел в карету с Коленкуром и отбыл в ночь. За его каретой с мамелюком Рустамом и польским офицером на козлах следовал второй экипаж, где находились Дюрок и генерал Мутон, а за ними – третий, в котором ехали секретарь, барон Фэн, и камердинер Констан.
Реакцию на отъезд Наполеона правильно назвать неоднозначной. Широко распространилось ощущение уныния и разочарования, но, как ни странно, порицания почти не звучали. Офицеры, особенно старшие, по большей части понимали его мотивы и одобряли такой шаг, а проклятия, если и слышались, то только среди солдат, да и то немногих{899}. В основном потому, наверное, что 6 декабря, когда весть об отбытии императора распространилась по армии, у всех в ней нашлись иные заботы и поводы для беспокойства.
Температура вновь резко упала. В Медниках 6 декабря доктор Луи Ланьо отмечал мороз в – 37,5 °C. «Это было и вправду невыносимо, – писал он, – приходилось притопывать при ходьбе, чтобы ноги не замерзли». Его данные чтения термометра подтверждаются и другими с разницей в один или два градуса. Франсуа Дюмонсо вспоминал, как они выступили утром, когда еще не рассвело. «Казалось, сам воздух замерз и превратился в маленькие снежинки прозрачного льда, крутившиеся вокруг, – писал он. – Затем мы увидели, как небо на горизонте постепенно окрашивается в ярко красный цвет: солнце вставало, сияя в воспламененной его лучами легкой ауре испарений, и вся покрытая снегом равнина окрасилась в пурпур и сверкала так, точно на ней рассыпали множество рубинов. Замечательное зрелище для глаза»{900}. Но идти через такое великолепие было сущим адом.
Полковник Гриуа выражал впечатления такими словами: «Сам воздух наполнялся льдинками, сиявшими на солнце, но немилосердно хлеставшими по лицу, как только задувал ветер, который к великому счастью бывал редко». Данное явление фиксировали многие. «Можно было видеть повисшие в воздухе замерзшие молекулы, – отмечал граф де Сегюр, поражавшийся тишине и спокойствию вокруг. – Мы словно бы брели жалкими тенями через царство смерти! Гулкий и однообразный звук наших шагов, скрип снега и слабые стоны умирающих – больше ничего не нарушало огромного моря скорбного молчания»{901}.
«Нас покрывал лед, наше дыхание казалось густым дымом, на волосах, бровях, усах и бородах у нас повисали мелкие льдинки, – вспоминал генерал Лежён. – Сосульки эти становились все больше и начинали мешать нам видеть и даже дышать». «Нередко лед запечатывал мои веки, – рассказывал Плана де ла Фай. – Мне приходилось прижимать их пальцами, чтобы, растопив лед, вновь открыть глаза». Пена лошадей замерзала, превращаясь в огромные сосульки у уголков их ртов и повисая на удилах. «Я более не мог дышать, ибо лед забивал мне нос и склеивал мои губы», – писал сержант Бургонь, которому чудилось, будто идут они через «заледеневшую атмосферу». «Утомленные и ослепленные снегом, мои глаза слезились, слезы замерзали, и я больше ничего не видел»{902}.
«Было нечто зловещее, нечто безжалостное в этом ясном небе, – замечал Брандт. – Через прозрачную пелену ярчайшей снежной пыли, словно множеством иголочек коловшей наши глаза, солнце выглядело огненным шаром, но огонь этот не давал тепла. Дома, деревья, поля – все исчезло под слоями сияющего и ослепляющего снега!»{903}
У многих развилась снежная слепота. «Глазной белок становился красным и распухал, как и веко, вызывая пульсирующую боль и обильную слезоточивость, – писал доктор Гайсслер. – Пораженные болезнью более не могли переносить свет и скоро совершенно слепли». Когда отступавшие колонны приближались к Вильне, все больше и больше людей держались друг за друга, чтобы не потеряться на пути{904}.
У них возникали такие сложности с застегиванием штанов на пуговицы на сильном морозе, что, как бы то ни казалось им унизительным и грязным, они отрывали или отрезали заднюю часть панталон или брюк, обеспечивая возможность испражняться не раздеваясь. К тому же надо было следить, как бы, пока мочишься, не замерз пенис, каковые случаи тоже иногда отмечалась.