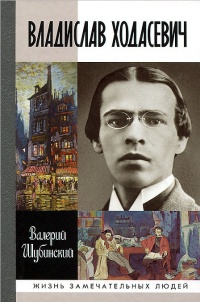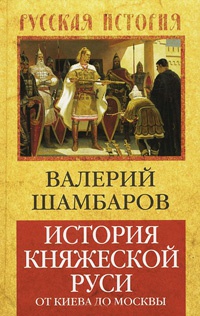Книга Лета 7071 - Валерий Полуйко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Отликовав и попридя в себя от пережитого, они вновь стали ждать, но как непохоже теперь это было на их прежнее ожидание – на ту их суровую, мучительную затаенность, в которой они прятали и свои горести, и отчаянье, и свои надежды, и как непохожи на себя стали они сами… Раньше московит-простолюдин, идя по Китай-городу, по Зарядью иль по Арбату, все больше к краю, к заборам жался, подальше от середины – середина улицы была не для него. Посередине ездили знатные, вельможные – верхом, в санях, в тапканах[242], и все на рысях, опрометью… Окажись ненароком на их пути – подомнут, сметут с дороги и не остановятся, не оглянутся.
На главных московских улицах – на Никольской, на Ильинке, на Варварке, в Кремле – простолюдин и вовсе был тише воды ниже травы: кругом боярские хоромы. Посольские да Иноземные дворы, один лишь вид которых судорожил ему поджилки, а перед их хозяевами и обитателями он робел до немоты, до истуканства. Презренным изгоем был простой московит в своем городе, и он мирился, терпел свое изгойство, сносил свою презренность, робел и ник перед сильными, кланялся каждой мурмолке, каждому столбунцу, каждой надменной рожей, обильно умащенной бороде, уступал им дорогу, место и свое первородное право хозяина своей земли. Даже у себя на посаде, в слободах, в сотнях не чувствовал себя простолюдин вольготно, и здесь над ним довлела осмиряющая, сковывающая сила их власти, и сюда, в свои дворы, в свои избы, нес он с собой и в себе гнетущий дух отверженности, презренности и изгойства.
И вот все разом изменилось – неузнаваем стал смерд: раньше, бывало, шаг ступит – десять раз оглянется, осмотрится, от боярина чуть ли не в подворотню хоронится иль шапку ломит за полверсты, почтенничает… Теперь – идет по улице, будто маковки на церквах считает; перед именитыми и глаз не смутит, с дороги не отвернет, а уж если и отвернет, боясь быть задавленным, непременно пошлет вслед проклятие – поненавистней, позлобней, еще и кулаком погрозит.
Теперь у рва перед Кремлем и в самом Кремле (с возвращением царя Кремль уже не затворяли) от черни не протолкнуться – будто на гульбище сходится она сюда. Дерзкая, глумливая, ни одного боярина не пропустит, чтоб не затронуть, не осмеять… На Дворцовой площади, в тридцати саженях от царских хором, ватажится чернь и без всякой утайки злорадными, искосными взглядами озыривает именитых.
В воскресный день в кремлевских соборах, что редко бывало ранее – только после больших пожаров, уничтожавших на посадах приходские церкви, – чернь торчит от заутрени до вечерни, и не столько молится, сколько тешит себя присутствием в этих духовных вотчинах именитых.
Бояре, бессильные пресечь злорадствующую вольность черни, стали реже ездить в Кремль, реже появляться на улицах, а в соборах кремлевских так и вовсе бывать перестали: даже пред ликом Божьим не могли они осмирить своей вросшей им в кости спеси.
Мстиславский, видя такое дело, принялся стыдить их, упрекать, увещевать, только они не больно внимали его упрекам и увещеваниям. Боярин Куракин с брюзжащим негодованием рассказывал в думе, как, едучи на Казенный двор, был заторен у Кузнецкого моста мужицкими телегами и битый час простоял на крутизне, моря лошадь, а когда намерился поуправить лиходеев, эти же лиходеи на нем всю шубу ободрали и грязь в него метали.
– Вот до чего дошло-то! – праведнически возносил он руки. – От царя терпим, теперь еще от черни терпеть стать?! Со свету долой от такового!
– Надысь, – жаловались другие, – у Покрова Пресвятой богородицы на рву разгульными купами стояли и многие хульные слова изрыгали на князей и бояр, мимо едучих.
– А князю Сицкому кошку дохлую в возок вметнули.
– Вот до чего дошло!
– Без слуг опасно стало ездить. Того и жди – надругается чернь!
– Верно – жди… Смута, вот она, как из квашни, пучится из них!
– Смуту, буде, и не утеют, учены уж, а голову издурна сымут.
– Управы на них теперь под царем не сыскать…
– Под царем ин – тем паче… Царю нынче все в угоду, что нам во вред. Да пущай: сия палка о двух концах.
– Дивите вы меня, бояре, – спокойно выговаривал им Мстиславский, наслушавшись таких разговоров. – Бороды сивы, а послушать вас – будто вчера на свет народились. Нешто впервой чернь мутится, впервой камни в нас мечет?! Лихое племя! Темное, дурное, необузданное! Не будь нас, они б на Боге вымещались, на святынях живоначальных, понеже утроба их – сие и разум их, и совесть, и вера. Не истины они жаждут, не света – хлеба насущного! Они и в Господе нашем Исусе Христе чтят токмо то, что он пятью хлебами мог пять тысяч накормить.
– Так-то оно так, – соглашаясь, не соглашались с ним бояре, – токмо ныне иная в них страсть. Будто со дня на день второго пришествия ждут.
– Ну пусть подождут и второго пришествия, и рая земного. Они испокон его ждут. И ереси их все – о рае земном! О справедливости, о превечном добре… Будто от добра и справедливости хлебы на деревах расти изочнут.
Своим хладнокровием и непомерным презрением к черни Мстиславский только сильней растравлял бояр. Видели они, что первый боярин, облаченный наибольшей властью в думе, властью, которая только и могла еще как-то защитить их, далек от их тревог. Именно презрение к черни и отгораживало его от этих тревог, а может быть, и не только презрение…
– Нет, боярин, – ополчались они против Мстиславского, – не чуешь ты знамения времени! А смерд, он чует! И сыграет он свой праздник на нашей улице.
– Нынче на Руси праздники заказаны всем. Вот знамение времени. А смерд… Он, как собака, сильней всего чует трусость. Покажи собаке спину – тут же вцепится. Так и смерд… Пошто спину ему казать? Овцой пошто перед ним делаться? Пред овцой всяк волк!
– Смел ты в суждениях, боярин, да на деле пошто ж не таков? Чернь всю зиму мутилась, и ты всю зиму сидел разом с нами в Кремле.
– Потому и сидел разом с вами, чтоб вы вовсе из Москвы не побежали. Видел, некоторые из вас уж намерялись метнуться вон – на позор свой!
– Нет в том позора – живот свой от поругания спасти!
– От супостата не бегаем, а от холопов своих бегать станем… Стыдитесь, бояре! Какова нам тогда цена в государстве?!
– Подступит лихая година – и побежишь! Было б куда бежать. Ну как вся Русь возмутится?! Нет смирения больше в черни.
– Они токмо часу ждут своего! Овцой или волком предстань перед ними – все едино, ежели час тот наступит!
– Мочалу ремня не порвать! – стоял на своем Мстиславский.
– Так-то оно так, токмо ин неведомо, кто есть мочало, а кто ремень?!
2
В кипучем, как одержимость, напряжении жила Москва. Томилась, искушаемая неизвестностью, и вольготствовала, раскрепощенная взбудораживающим предчувствием перемен. Любое, самое незначительное событие теперь обретало особый смысл, особое значение… Теперь во всем, что бы ни случалось на Москве, даже если царь выезжал на прогулку не на белом коне и не из Фроловских ворот, как обычно, а из Никольских или Тимофеевских, виделось предвестие этих перемен.