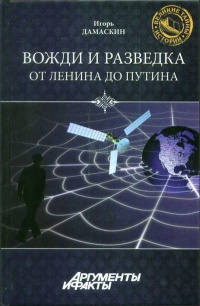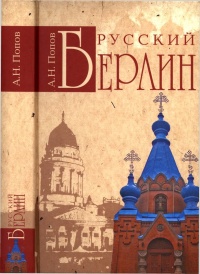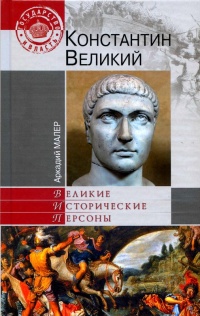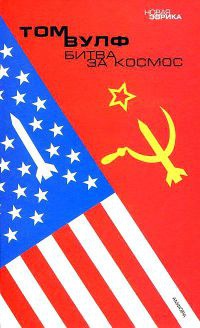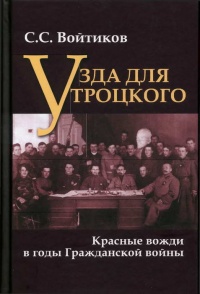Книга Писатели и советские вожди - Борис Фрезинский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ваша статья о Стендале привлекательна для меня больше всего позицией: искусство, литература, слово о человеке, о его жизни в обществе вечны тогда, когда они шире и глубже тенденции дня. Любовь, честолюбие, революцию, страсти и чувства эпохи можно охватить только с каких-то очень широких и общегуманистических и общедемократических позиций; тогда Жюльен Сорель[1264] и Анна Каренина становятся вечными характерами. Этой широты мышления и видения нет ни в нашем искусстве, ни в литературе, ни в литературоведении, потому что в этом видят не достоинство, а порок. Молодой талантливый литературовед А. Д. Синявский написал небольшую монографию о Пастернаке для 3-х томной истории Советской литературы, готовящейся в нашем институте[1265]. Эта великолепная работа написана именно с таких широких позиций гуманистического и жизнеутверждающего слова, как только и можно писать о Пастернаке. Ее очень хвалили, но, увы, в 3-х томник она очевидно не войдет, потому что работа отходит от прямых норм и форм узкой классификации, в которые никак не втиснешь Пастернака. И вот таким образом из Истории советской литературы этот поэт — крупнейший художник — «выпадает», ибо с этих узких позиций поставить его рядом с Горьким никак нельзя. А с точки зрения большого настоящего искусства, служащего народу, человечеству, прогрессу — это можно и должно, и необходимо было сделать! И с точки зрения большого, передового гуманного искусства прекрасно стали бы рядом и Горький, и Маяковский, и Пастернак, и Ахматова, и Фадеев, и Казакевич, потому что они все-все — нужны советскому человеку в разные моменты его жизни, для выражения различных состояний его сложной духовной жизни. Я не ломлюсь в открытую дверь, нет, я, к сожалению, декларирую все это перед глухой стеной.
Вот «Красное и черное», вот юный Жюльен Сорель, пылкий, искренний, в чем-то добрейший, в чем-то хитрейший молодой человек. Он — дитя революции, революция сделала его судьбу сюжетом для Истории. Разве этот молодой человек незнаком нам сегодня? Разве у нас честолюбие перестало быть двигателем душ? И разве колесо Истории не раздавило сотни таких горячих голов, выбитых из захолустной жизни и устремившихся по незнакомым орбитам куда-то вдаль и ввысь? А сколько трагических любовных историй разыгрывается в нашей жизни, в каждой из которых запечатлевается история нашего общества!
Когда мне было 17 лет и я училась в 10-м классе школы, я познакомилась с А. Я. Каплером и мы полюбили друг друга. Это был очень короткий роман, напугавший и возмутивший всех ханжей, это были чистейшие и прекраснейшие чувства тепла, уважения, привязанности, нежности друг к другу двух людей, разделенных возрастом, воспитанием, условиями жизни, всеми тысячами условностей пошлой традиционной жизни. Каплер поплатился за это десятью годами ссылки и лагерей, я — разочарованием в правоте и мудрости одного близкого мне человека[1266], разочарованием во многом, что связано было для меня, до того, с абсолютностью его имени. Но прошло 12 лет, и вот встретившись, мы посмотрели в глаза друг другу, и оказалось, что не забыто ни одно слово, сказанное друг другу тогда, что мы можем разговаривать, продолжая фразу, начатую 12 лет назад, понимая друг друга так же легко и свободно, как это было тогда. Чудо осталось живо и не исчезло до сегодняшнего дня, хотя новые условности и новые барьеры снова нас разделили и, должно быть, навсегда.
У меня была нянька, старуха, прожившая в нашем трудном доме 30 лет. Деревенской девчонкой 13 лет ее взяли работать в дом к помещику, потом перевезли в Петербург. Она была хорошенькой и очень смышленой девчонкой, все умела, любила читать книжки и работала в богатых, образованных и либеральных домах то экономкой, то поварихой, то нянькой. Довольно долго жила она в семье Н. Н. Евреинова, видела Лансере, Трубецких, как-то я показывала ей репродукции портретов Серова, она увидела «портрет фон Дервиз с ребенком» и сказала: «А, фон Дервиз, я помню ее, она бывала у моей буржуйки» (так она называла своих бывших хозяек). Вот эта Александра Андреевна, прекрасно знавшая русскую литературу оттого, что была любознательна, умевшая великолепно рассказывать русские сказки, попала в 1926 году в наш дом. За ней бегали толпами дети, жившие тогда в многолюдном Кремле, и, открыв рот, слушали ее прибаутки и песенки. Когда к нам в дом приехал как-то Горький, она смотрела на него в щелку двери; ее вытащили за руку в переднюю и представили писателю, который спросил, что же она читала из его книг. Она назвала ему: «Мать», «Детство», «В людях», а особенно ей понравился рассказ «Рождение человека». Горький был очень доволен. У нее был муж, фельдшер, бросивший ее с двумя сыновьями во время мировой войны. Один сын умер, другого она вырастила сама, он сейчас преподаватель Тимирязевской академии, работает над докторской диссертацией. Мальчишкой она привезла его в Москву из деревни и спросила у моего отца, куда его определить. Это были первые годы коллективизации, и естественно ей сказали, что «нам сейчас нужны люди в сельском хозяйстве». Так она определила судьбу своего сына. В 1955 году мы справляли ее 70-летний юбилей, и удивительно, сколько добрых слов было сказано ей, делавшей людям только добро всю жизнь. Для меня она была в течение всей моей жизни оплотом спокойствия, трудолюбия, тепла, какого-то эпического спокойствия, каратаевской «круглости» и неиссякаемого оптимизма. Она была толстуха, обожала вкусно готовить и кушать, болела грудной жабой и с ней делались припадки оттого, что она лазила с детьми под стол на четвереньках или кидалась ловить бабочек. А последний приступ случился с ней оттого, что она со всех ног побежала к телевизору посмотреть на приезд в Москву У Ну[1267], и, споткнувшись, упала. Мы похоронили ее на Новодевичьем рядом с могилой нашей матери[1268].
Вот два сюжета из нашей современной жизни, как видите. Два романа можно написать, если вспомнить всех окружающих людей, которых я знаю, если взять детали душевной жизни, если вспомнить, на фоне какой бурной и изменчивой истории развивались эти сюжеты — один любовный, другой просто история жизни одной женщины. Какие это великолепные могли бы быть «Картины общественной жизни», сколько поэзии в такой истории любви, сколько исторической закономерности в судьбе моей няньки! Должно быть, это был бы чистейший реализм. Но почему способы «его типизации» должны были бы быть «новаторскими» по сравнению, скажем, со «способами» Льва Толстого — я не понимаю, хотя за то, что должна понимать, обязана понимать, мне платят ежемесячно 1800 рублей в моем институте!
Вот о чем можно написать автору статьи о Стендале, вот что такое «Красное и черное», вот почему, искусство — настоящее искусство, как его не называй, — объединяет очень многих людей, и даже, в какой-то степени, нас с Вами, дорогой Илья Григорьевич.