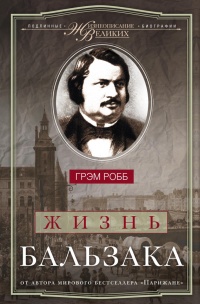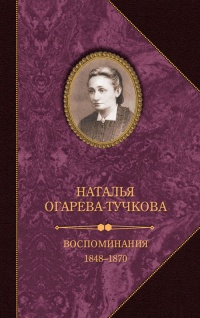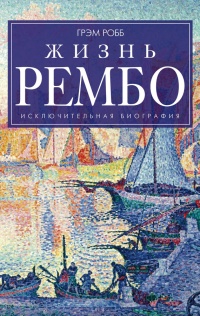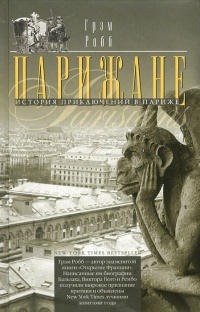Книга Жизнь Гюго - Грэм Робб
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Гюго сделал все, только не впал в летаргию. Если не считать скрипа в суставах и приступа нефрита, почти ничто не напоминало ему о подкрадывающейся немощи: его «лоно» еще имело впереди «добрых семь лет», его чувство юмора не пострадало, а дружба с Юдит Готье созрела и расцвела, время от времени выливаясь в секс. Он даже – впервые в жизни – написал несколько любовных сонетов. Сонет – форма, которая считалась слишком узкой для широкой руки Виктора Гюго. Возможно, он остерегался сонетов, потому что Францию познакомил с ними Сент-Бев, к тому времени уже покойный. Мысли Гюго о жизни после смерти также нашли свое выражение в тщательно составленном завещании. Он думал о непознаваемом Боге, чьи суждения меряются внутренним мерилом, называемом совестью: «Я пытался ввести нравственные и человеческие вопросы в то, что называют политикой… Я говорил от имени угнетенных всех стран и всех партий. Верю, что поступил хорошо. Совесть подсказывает, что я прав. И если будущее докажет мою неправоту, мне жаль будущее»{1316}.
Или, как говорится в стихотворении из сборника «Грозный год», где употребляется образ, близкий его сердцу, Гюго был «безмятежным кредитором бездны», Природа – векселем, а Бог «не был банкротом»{1317}.
Впервые за двадцать лет он мог полностью распоряжаться своим творчеством. Судя по всему, он о чем-то договорился с крестным Алисы, министром образования. Несмотря на то что можно стало ввозить из Бельгии политические памфлеты, ящики с «Наполеоном Малым» и «Возмездием» по-прежнему считались конфискованными. Почему? Потому что Гюго не получал гонорара от этих изданий. Издателям, которые рисковали свободой, нелегально ввозя во Францию произведения Виктора Гюго, его шаг показался верхом неблагодарности{1318}. На сей раз Гюго пожнет плоды восстанавливающейся экономики: французская читающая публика – не более несостоятельный должник, чем Бог.
Кроме того, он усилил хватку и дома. Молодая вдова Шарля поняла, что и ее дети, и ее тело стали объектом притязаний деда. Жорж и Жанна росли в высшей степени странном окружении; они стали пешками в борьбе двух сторон. Самые мелкие драмы, как всегда, задокументированы подробнее всего, но одна заметка в дневнике Гюго довольно точно описывает их отношения: «Я за то, чтобы малышку Жанну отлучили от груди. Мне кажется, что ее кормилица измучена. Алиса притворяется, будто ничего не замечает. Доктор согласен со мной. Жанну немедленно отлучат от груди»{1319}.
Даже гнетущее возвращение Адели принесло с собой солнечный лучик в образе мадам Баа, женщины, которая сопровождала ее в Европу. 23 февраля Гюго записал в дневнике по-испански: «Первая негритянка в моей жизни». За этой записью следуют новые иероглифы, но не из самых изобретательных: большая заглавная буква «О» напоминает черную дыру.
Несмотря на новые источники утешения, Гюго тосковал по Океану и своему «орлиному гнезду», в котором он надеялся написать последний шедевр в прозе. Его последним делом в Париже станет напоминание, почему он хочет уйти, – книга из 98 стихотворений, названная «Грозный год». Громко высказавшись, Гюго дал понять, что не намерен тихо и изящно удалиться на покой.
Книга начиналась с Седана и заканчивалась недавними репрессиями. Повторяющиеся, преувеличенные образы намеренно раздражали. Весь первый тираж в 1600 экземпляров разошелся еще до полудня в день выхода в свет (20 апреля 1872 года). Роль красных тряпок для реакционных «быков» играли строки из точек – добровольно вырезанные куски, призванные показать «будущему», что и на втором году Третьей республики свободы слова нет по-прежнему.
В рецензии на «Грозный год» раздражительный Роберт Бьюкенен указал на беспредельность Гюго как отличный пример «расточительности, свойственной всем французам» – «опрометчивого забалтывания власти»{1320}. С 30-х годов XIX века в моду вошли короткие, астматические стихи, похожие на причудливые узоры в салонах Второй империи; они несли в себе дыхание породившего их материализма. Гюго дал поэтический ответ миниатюризации. Его намеренная непоследовательность в словоупотреблении вызывает ощущение бешеной круговерти событий – Истории, «консьержке, которая считает себя знатной дамой»{1321}, редко удается это передать. Он выбирал слова по весу, за тяжесть, подобно тому, как книги используют вместо стульев или стопоров для дверей. Широкие колонки александрийских стихов извергают в мозг читателей крошечные, очень значимые фразы: например, долгая обличительная речь против воображаемого анархиста, уничтожившего библиотеку Лувра, заканчивается ответом на полстроки: «Я не умею читать».
Лучшая рецензия появилась в юмористическом еженедельнике «Погремушка» (Le Grelot). Автор составил разговорник для ошеломленных читателей «Грозного года», тем самым послужив полезной цели. Разговорник выбивает подмостки из-под синтаксиса Гюго и обнажает грубую странность его образной системы. Однако за смешками возникал важный вопрос: служит ли поэзия средством для проникновения в политику или события – лишь сырье для стихов Гюго? Проще задать такой вопрос, чем ответить на него.
Азбука Идеала – библиотека.
Инкарнация, высиженная апокалипсисом, – что-то очень необычное.
Завеса судьбы – очень толстая, когда подбита тайной.
Темное пятно на горизонте – поэт.
Рассветный луч – превратить рассветный луч в удар грома – применить пушку «Виктор Гюго».
Громадное око – Париж.
Разум, на котором отдыхает орел, – разум высшего качества. Высшее продолжение – могила.
Разрывание паутины – судьба.
Блевотина пьяного – раскаяние.
7 августа 1872 года Гюго оставил Францию в ее блевотине и отплыл на Нормандские острова вместе с Жюльеттой, Алисой, внуками и болезненным Франсуа-Виктором. На Гернси он собирался провести большую часть года. Его ждала большая белая страница.
Прошло некоторое время до того, как он приступил не к созданию своего последнего романа, но к его «последнему высиживанию», и не только высиживанию: целые поколения эмбрионов предшествовали первому, несовершенному черновику. Он как будто нарочно тянул время, но у него имелось столько планов в различных стадиях незавершенности, что только он сам знал об этом недостатке. Чтобы поторопить себя, он внушал себе, что смерть не за горами: «Лев ложится в свою пещеру умирать. / Друзья, подобно Шекспиру и подобно Эсхилу, я вхожу / В тот период забвения, что наступает перед смертью». «Я очень стар: времени осталось лишь на то, / Чтобы быть мудрецом»{1322}.