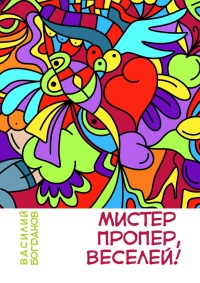Книга В ожидании Божанглза - Оливье Бурдо
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
К счастью, Мамочка скоро взяла дело в свои руки. Однажды вечером, в пятницу, войдя в клинику, мы увидали пустые коридоры. Двери всех палат были настежь открыты, но и там ни души, хоть стой, хоть пляши. Просто ни одного безмозглого дурика в поле зрения. Даже Пустышка и та куда-то улетучилась. Мы прошли по всему отделению и наконец услыхали музыку, топот и громкие возгласы, доносившиеся из столовой. Открыв дверь, мы увидали такое зрелище, какого тут наверняка никто никогда не видел. Все эти психи пустоголовые, в выходных нарядах, крича во всю глотку, танцевали слоу — кто парами, кто сам по себе, а один так и вовсе облапил колонну и терся об нее, причем вполне нормально смеялся, как ненормальный. На патефоне крутился «Мистер Божанглз». Могу поспорить, что ему никогда еще не приходилось крутиться для таких чокнутых, хотя он много чего повидал под нашей крышей, — правда, там народ был классом повыше. Свен наяривал на воображаемом пианино без клавиш, сидя перед столом, на котором стояла Мамочка, щелкая пальцами на манер кастаньет, распевая и хлопая в ладоши. Они оба так здорово это делали, что прямо-таки чудилось, будто «Божанглз» звучит из ее уст, а мелодия вылетает из-под пальцев Свена. Даже Пустышка и та кивала в такт музыке, сидя в инвалидном кресле, и на ее лице было написано полное блаженство. Один только Йогурт пребывал в панике, потому что ему сорвали выборы. Он бегал по залу и приставал к танцорам, агитируя их идти голосовать и угрожая, что если они не пойдут, то на всю следующую неделю останутся без президента. Он даже дернул Мамочку за юбку, чтобы она слезла со стола, и тогда она схватила сахарницу, стоявшую у ее ног, и высыпала весь сахар ему на голову, призывая окружающих подсластить йогурт. И все эти дурики тоже стали сыпать сахар на Йогурта, танцуя вокруг него хороводом, как сиу[22], и распевая во весь голос:
— Подсластим Йогурта, подсластим Йогурта, подсластим Йогурта!
А он стоял не двигаясь и позволяя сыпать на себя сахар, как будто в его президентском теле не было ни одного нерва. Пустышка глядела на все это с широкой улыбкой — видно, и ей уже осточертели его президентские истории. Увидев меня и Папу, Мамочка спрыгнула со стола, подлетела к нам, вертясь волчком, и объявила:
— Сегодня вечером, милые мои, завершены мои мучения, я праздную конец своего лечения!
С тех пор как Мамочку похитили, прошло ровно четыре года. Для всей клиники это стало жутким шоком. Медики так и не поняли, что к чему и почему. С побегами больных они давно свыклись, но с похищениями не сталкивались никогда. И хотя в палате были обнаружены следы борьбы, выдавленное снаружи оконное стекло и пятна крови на простынях, никто ровно ничего не видел и не слышал. Безголовые и безбашенные распсиховались до предела, во всяком случае, гораздо больше, чем обычно. А некоторые реагировали совсем уж неожиданным образом. Лысый дурик со сморщенным личиком был абсолютно уверен, что это его вина, и с утра до ночи лил слезы, яростно расчесывая свой голый череп, прямо жалость брала на него смотреть. Бедный старикан несколько раз прорывался в дирекцию, чтобы покаяться в своем преступлении, но всем было ясно, что он не способен похитить даже мышь. Другой псих пришел в ярость от того, что она исчезла, не захватив с собой его подарки; он вопил, проклинал Мамочку и молотил кулаками по стене. Сначала больные это терпели, а потом возмутились: горе горем, но как он смеет оскорблять Мамочку?! Он даже порвал в клочки все свои рисунки, на которых изображал монументы, и мы вздохнули с облегчением — куда было девать эти презенты?! Нам и без того хватало мусора. А Йогурт был твердо уверен, что это дело рук тайных служб, которые отомстили за него в истории с сахарницей, и поэтому непрерывно убеждал окружающих, что его лучше не трогать, иначе обидчикам, особенно прытким, грозит та же кара: их похитят и подвергнут пыткам. Он ходил, гордо выпятив грудь, с высоко поднятой головой, как человек, который никого и ничего не боится. Решив снять побольше навара с этого кошмара, он воззвал к медсестрам, убеждая их тоже голосовать за него, но никто не проявил желания выбирать в президенты эту кучу рыхлого творога, надо все-таки знать свое место. Что касается Свена, тот радостно бил себя в грудь, тыкал в нас пальцем, а потом раскидывал руки, изображая самолет, и распевал песни на шведском, итальянском, немецком, в общем, непонятно, на каком языке, — главное, что он был ужасно доволен. Он улетал, потом возвращался, аплодировал, воздевал руки к небу и снова улетал. Когда мы уходили, он подошел и обнял сначала меня, потом Папу, оцарапав нам щеки своим торчащим зубом, забрызгав слюной и прошептав какие-то молитвы. Свен был самый трогательный из всех тамошних дуриков, это я вам точно говорю.
У полицейских тоже вышел прокол. Они обыскали палату, составили протокол. Стекло и в самом деле было разбито со стороны улицы, и кровь точно была Мамочкина, а опрокинутый стул и разбитая ваза непреложно доказывали, что здесь шла борьба не на жизнь, а на смерть, вот только они не обнаружили никаких следов внизу под окном, на газоне. Опрос жителей соседних домов ничего не дал, медперсонал не заметил никаких странных личностей, бродивших вокруг здания. Полицейские решили, что медикам можно верить на сто процентов: уж кто-кто, а они-то с ходу определяли своих пациентов. Нас тоже опрашивали. В первый раз полицейские интересовались, не было ли у Мамочки врагов, и мы ответили, что да, был один такой — налоговый инспектор, но что все остальные очень ее любили. Налоговый след полиция как-то сразу отмела. Потом нас опросили вторично, но и эта беседа ничего не дала. Да и что тут удивительного: Мамочку-то похитили мы, а организовала все это она. И мы ж не сумасшедшие, чтоб заявлять на самих себя.
После того праздника в столовой, когда мы с Мамочкой вернулись в ее палату, она заявила нам, что больше не хочет жить в клинике: врачи считают, что она никогда не вылечится полностью, а тогда зачем ей продолжать травиться лекарствами, если все это ни к чему. «Я ведь всегда была слегка сумасбродной, так какая разница — чуть меньше или чуть больше, вы же не перестанете меня любить, правда?» — сказала она. Мы с Папой переглянулись и решили, что эти слова не лишены здравого смысла. И вообще нам уже обрыдло ежедневно таскаться в клинику, ждать ее возвращения домой, которое не обещало быть скорым, смотреть на пустой стул за обеденным столом и переносить на неопределенный срок наши танцы втроем, в гостиной. Да и других поводов покончить с лечением было предостаточно. В стенах клиники, с их мягкой обивкой, песня о Мистере Божанглзе звучала тоскливо и не так красиво, как дома; Мамзель Негоди часами торчала перед диваном — наверно, дивилась, почему Мамочка не появляется, не лежит с книжкой и не гладит ее по головке. Ну а я уже начал слегка ревновать Мамочку к медперсоналу и психам, которые, в отличие от нас, наслаждались ее обществом круглые сутки. Мне надоело делить ее с другими людьми, вот и все. «Это просто преступление — бездействовать и ждать, когда лекарства окончательно снесут Мамочкину крышу», — подумал я, и в этот момент Папа, озабоченный и вместе с тем возбужденный, произнес такую речь: