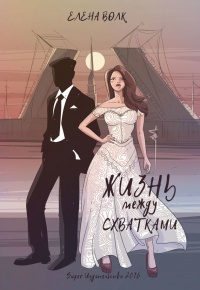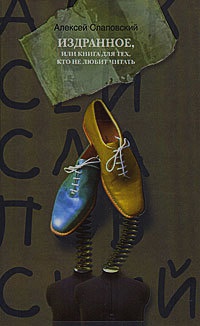Книга Все уезжают - Венди Герра
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мама ничего на это не сказала и молча вышла на улицу. По дороге она не проронила ни слезинки. Мы зашли на переговорный пункт и выстояли еще одну очередь. Мама поговорила с Фаусто. Единственное, что я услышала, были ее слова: «Забудь обо мне». И она тут же повесила трубку. Не должна была мама сдаваться.
Среда, 25 июня 1980 года
В комнате сидят моя мама и старенький художник, с которым она познакомилась в Школе искусств. Старичка зовут Лам. Он пришел со своей женой по имени Лу, она китаянка.
Это Леандро сделал маме сюрприз, пригласив их. Лам сидит в кресле с колесиками.
Очень давно не видела маму такой довольной. Лам поражен ее рисунками и керамикой. Она подражает керамике аборигенов, но может заниматься этим только в свободное от работы на радио время, а не так, как раньше, до моего рождения.
Лам посмотрел также мои рисунки и сказал, что я стану замечательной художницей.
Он пригласил маму во Францию, в свою мастерскую керамики, чтобы она ему там помогала. Мама согласилась, хотя мы обе прекрасно понимаем, что он уедет, а нас потом не выпустят. Как произошло с Фаусто.
Я совсем засыпаю. Лам нарисовал мне в Дневнике изумрудно-зеленую ящерицу с пальмой или чем-то в этом роде.
Леандро тоже пригласили — его-то, конечно, выпустят. Без него нам будет так грустно. Не знаю, что мы будем делать здесь совсем одни.
До завтра.
Через ад юности мы промчимся, словно по раскаленным углям, ибо только глупец захочет задержаться в аду.
Элисео Диего
Воскресенье, 19 октября 1986 года
Мама говорит, что мое поколение заражено стадным чувством. Для нас не существует я — только мы.
Я думаю, это происходит потому, что мы их дети: май шестьдесят восьмого, мини-юбки, массовые выезды на уборку тростника на открытых грузовиках, парк возле похоронной конторы, где они хладнокровно делали себе татуировки, комнатушки, куда набивалось до пятнадцати человек, чтобы тайком послушать «Битлз», что было худшим грехом, нежели есть мясо в пост. Они оттуда, из шестидесятых.
Вальдо Луиса, лучшего маминого друга со времен Национальной школы искусств, убили за то, что он вступился за одну балерину в кафе «Ла Пелота» на углу Двенадцатой и Двадцать третьей. Вошли несколько человек, и один из них выстрелил. На его похоронах было множество народа, все пришли с цветами, а потом пели хором и читали стихи. Друзья до сих пор его оплакивают.
Мы живем в промежутке между запретным и обязательным. В нас отсутствует этот дух единства, присущий шестидесятым. Мы живем, спрятавшись по двухэтажным койкам, представляющим собой своего рода коллективный монумент, которому мы поклоняемся в каждом новом месте, куда нас забросят. На такой койке, предназначенной для двоих, иногда спят четверо.
Одежда у нас общая — чтобы пойти куда-нибудь в выходные, приходится одалживать ее друг у друга. По-настоящему ничего из того, что ты приносишь в школу, не принадлежит тебе одной. Еда — это нечто такое, что мы в наших школах и интернатах привыкли по-быстрому заглатывать, так как не приучены наслаждаться ее вкусом. Мы едим так, словно бежим эстафету, под лозунгом «кончил первым — помоги товарищу».
Если ты правильно пользуешься столовыми приборами, тебя обзывают буржуйкой, так что лучше уж орудовать одной ложкой, как лопатой. И разговаривать с набитым ртом. И подталкивать еду большим пальцем. Когда в конце недели я возвращаюсь домой, мама называет меня «дочерью средневекового свинопаса».
Мама не понимает, что если ты не такая, как все то должна заплатить за это высокую цену. Тебе никогда не звонят, чтобы куда-нибудь пригласить вместе с другими: ни на концерт, ни на пляж, ни на устраиваемые без особого повода домашние вечеринки. Вспоминаю, сколько раз я стояла одна в нескончаемой очереди, чтобы попасть на концерт Сильвио или Пабло[16], а неподалеку стояли мои одноклассники, шутили, смеялись и радовались так, как мне не дано.
Это холодная война, тихая война юности. Если ты не входишь в группу, у тебя не будет парня; если не пользуешься среди них авторитетом, то тебя отталкивают, над тобой насмехаются, и ты превращаешься в нечто такое, с чем можно не считаться. Ты им мешаешь, раздражаешь, они тебя не понимают и мстят за это. Они не могут смириться с тем, что у тебя есть собственный мир, а ты — с тем, что тебя отвергают.
Никто тебе не скажет, что ты красивая, что тебе очень идет это платье. Даже если ты принадлежишь к группе, тут действует правило, которое я назвала NO LOVE.
Не любить друг друга: если кто-то кого-то любит и даже с ним встречается, он в этом не признается. Все обращает в шутку. Не ощущает ответственности за это чувство. Потому-то подобные отношения так мимолетны — влюбленные пары распадаются через месяц или два. Потому-то возникают недоразумения — никто никому не говорит того, что он на самом деле думает. NO LOVE. Если ты скажешь, что кого-то любишь, ты пропал. NO LOVE. После этого даже с тем, кто тебе по-настоящему нравится, общего языка ты не найдешь никогда. Вдобавок стало модно не целоваться. Все обнимаются, тискают друг друга, некоторые уже спят вместе, но поскольку договорились NO LOVE, не целуются. Я ничего не понимаю, но как-то живу внутри этого цирка.
О том, чтобы записывать что-то в Дневник в школе, на глазах у всех, нечего и думать. Я всегда куда-нибудь прячусь с тетрадкой, потому что то, что я тут пишу, не должны прочесть ни одноклассники, ни учителя. Иначе меня могут выгнать из школы. Очень не хотелось бы, потому что здесь мы изучаем искусство. Но как все-таки трудно быть непохожей на других.
Каждый из нас должен «по песете каждому мученику», говорит моя мать: страдавшему от астмы Че, сгинувшему в морской пучине Камило, тому, кто перед смертью кровью написал на стене имя Фиделя, убитым в Анголе, погибшим в Боливии, повстанцам-мамби — перед всеми мы оказываемся в долгу. Они сделали для нас все, мы же для них мало что можем сделать. Думаю, мы стали их должниками задолго до своего рождения.
Если я кому что и должна, так это маме, и никому больше. Для меня истинные мученики — это наши родители. Мы, их дети, иногда хотим забыть свои фамилии и настоящие подвиги совершаем ради того, чтобы ничем не отличаться от тех, кто стоит в длинной очереди с алюминиевым подносом.
Мне осточертело стараться быть как все и распевать дурацкие песни вместе со всеми. Я хорошо знаю, что такое юность, и стригусь наголо, чтобы все понимали, что я — это я. В эту субботу я остриглась, оставив лишь коротенькие волосы по бокам и челку.
Я знаю, что такое юность. Когда кажется, что все только начинается, но это не так. Скорее, все рушится. Разлетается на мелкие кусочки, как китайская ваза, выскользнувшая у мамы из рук, когда она увидела мою прическу. Ваза упала на пол и разбилась. Из-за того, что я другая, пролилась кровь нашей фальшивой династии. Мама порезала палец осколками фарфора. Китайская ваза, китайский фарфор, жизнь, непонятная, как китайская грамота.