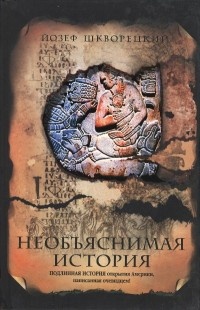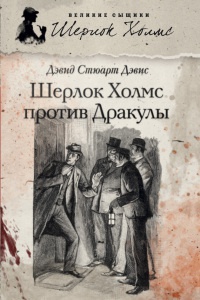Книга Львенок - Йозеф Шкворецкий
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Даже не произнесенное вслух ее имя придало мне сил, привело в чувство, и я окончательно опомнился. Надо как-то из этого выпутываться. Тут распахнулась дверь, и в комнату, точно наводнение, ворвалась Анежка. Разумеется, на голове совершенно новый «девятый вал», только-только от парикмахера.
— Меня никто не искал?
— Искал. Начальник.
— А что ты ему сказал?
— Что ты вместе с Буковским отправилась в парикмахерскую.
— Дразнишься, да? — Анежка села за стол. — Шеф уже прочел предисловие?
— Что-то там у тебя лежит.
— Точно. — Анежка схватила несколько листочков, которые утром бросила ей на стол редакционная секретарша, и углубилась в чтение.
Я тоже. Нет-нет. Какое там! Если бы этакая вот бомба взорвалась, наша литература оказалась бы в страшной опасности, а все мы, что сидим сейчас на ней, свесив ножки, имели бы совершенно дурацкий вид. Как там сказала о моих стихах барышня Серебряная? То, чего она не нашла в них, есть в этой вот прекрасной жуткописи. Никогда я не умел и никогда уже не буду уметь так писать. Однако милостивая эпоха простила меня и даже наградила за изворотливость. Я предал бы мою милостивую эпоху, порекомендуй я вот это. Да-да, все имеет свой конец, и я никогда не строил иллюзий, как некоторые. Жизнь так коротка. Именно в этом и таится надежда. Замешкаешься — и платишь едва ли не золотом. Коротка жизнь, коротка.
— Проклятье! — воскликнула Анежка.
— Что там?
— Представляешь, он вычеркнул мне Паустовского!
Она протянула мне предисловие поэта Буковского к какому-то сборнику стихов. Текст был гладкий, без шефовой правки. Только в самом конце одна волнистая линия. И рукой шефа на сопроводительном листочке написано: «Предисловие хорошее, политически верное, художественно новаторское. Единственное, что я порекомендовал бы, так это убрать цитату из Паустовского на стр. 3. В ней нет необходимости, текст и сам по себе ясен, а автор недавно был подвергнут критике!»
Адью, Цибулова! Я не могу допустить, чтобы тебя когда-нибудь подвергли критике. Извини, но своя рубашка ближе к телу. Дождись следующей фазы общественного развития.
Я встал и отнес недочитанную рукопись Пецаковой.
Манес
Барышня Серебряная свое слово сдержала: была уже половина восьмого, а я все еще подсчитывал блондинок и брюнеток у балюстрады перед Манесом — кого пройдет больше. Блондинки вели, из «супероктавий» и «фелиций» их извлекали пожилые холостяки, в саду какой-то саксофон заходился в приступах стиля west coast, и под эту музыку мой желудок постепенно сжимался до размеров воробьиного — так переживал я из-за барышни Серебряной. Что-то мне подсказывало, что если уж она так охотно согласилась на свидание, то затащить ее в койку будет трудненько.
А солнце сидело на самой макушке Петршинской смотровой башни, точно воплощение медово-бредовой идеи подвыпившего стекольщика, блондинки и брюнетки маршировали в пастельном освещении возле Манеса, и ни одна из них не походила на барышню Серебряную. Барышня Серебряная была неповторима.
Самое обидное, что я верил в это. Я говорил себе: старик, не сходи с ума, неужто тебе нужно повторять циничные прописные истины, которые мы заучивали из-под палки переходного возраста? Ведь что такое любовь? Элементарная погоня сам знаешь за чем… но никакие брутальные рассуждения не оказывали на меня терапевтического действия, я втюрился в Серебряную, и мысли о не слишком поэтичных проявлениях ее метаболизма мне не помогали. Она сияла перед моим мысленным взором, словно обручальное кольцо… в зеленоватом подводном мире Влтавы, в своей золотой наготе, дважды обвитая скромной бирюзой; трамваи звенели, Влтава шумела под плотиной, солнце, отползая от тени Манеса, карабкалось на вторые этажи кремовых домов на противоположном тротуаре и сексуально ласкало гипсовых ангелов на фасадах; время бешеным аллюром помчалось назад, в год от Рождества Христова 1946, тогда я ждал здесь свою первую пражскую девушку, в кармане — студенческие пять крон, желудок корчится от любви и страха, точно Вашек Жамберк… и тут наконец я увидел барышню Серебряную. Она все-таки сдержала слово: выскочила из подошедшего трамвая — и широкая розово-белая полосатая юбка взметнулась выше колен, и розовые босоножки на длинных, умопомрачительных ногах простучали по булыжникам, и вихрастая головка улыбнулась мне.
— Вы пришли вовремя? — спросила она очаровательно.
— На час раньше, — ответил я. — Время без вас для меня не существует. Вам в «Зверэксе» сотрудники не требуются?
Она засмеялась, я поцеловал ей руку. А потом я возносился вместе с ней на террасу и полной грудью вдыхал исходивший от нее аромат лаванды.
Однако на террасе барышня Серебряная пожелала говорить исключительно о литературе. Мне хотелось бы обсуждать ее глаза, я хорошо и с превеликим удовольствием говорил о подобных предметах; вдобавок ее до абсурдности черные очи вдохновляли меня не хуже алкоголя.
Но барышня Серебряная упорно говорила о литературе.
— Черт побери, да почему это вас так интересует?! — спросил я в конце концов. — Вы же уверяли, что не любите литераторов.
— Я такое говорила?
— Припомните-ка! — И я принялся загибать пальцы, как она вчера: — Притворщиков, обманщиков, литераторов…
Она рассмеялась.
— Действительно не люблю.
— Почему?
Она поглядела через перила на речную гладь, где в ослепительном сиянии волн ополоумевшие мужчины добивались расположения юных женщин. По красивому профилю скользнула тень воспоминания. Барышня Серебряная опять повернулась ко мне и смешно приподняла брови. Мелочь вроде бы, а я вот немедленно оказался в нокауте.
— Потому что научена горьким опытом. Один из них однажды мне кое-что сделал.
Я затрепетал от нетерпения.
— Не могу поверить! Вам просто нельзя сделать никакой гадости!
— И тем не менее это была довольно-таки крупная гадость, — сказала она, сделала глоток — и от конца соломинки внутри травянисто-зеленого лимонада отлетели несколько пузырьков: точь-в-точь несчастные души.
— Что же он вам сделал?
Она молчала. Я продолжал настаивать:
— Ну что? Что? Неужели он вас бросил? Нет, не может быть, иначе бы он умер от тоски.
— Вы так думаете?
— Не думаю. Знаю. Вы — словно Неаполь, только наоборот. Не видеть вас после того, как однажды увидел, означает умереть.
Однако барышня Серебряная и не думала таять от моих подлизываний. Я уже напоминал себе Вашека Жамберка.
— Ну, а он не захотел умирать, — наконец проговорила она. — Вместо него… — И она замолкла.
На маленькой сцене в углу террасы опять подал голос саксофон. Он трубил протяжно, печально, точно покинутый стадом слон. В зеленом Ленкином лимонаде вспыхнули рубиновые искорки. Это лучи солнца, клонившегося к горизонту, собрались в зеленом фокусе.