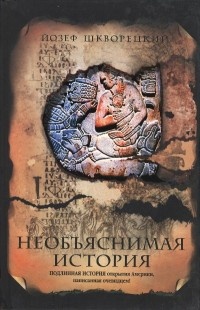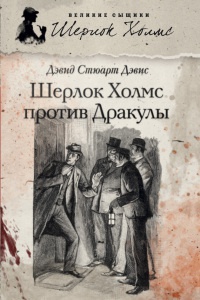Книга Львенок - Йозеф Шкворецкий
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ну да, натурализма тут хватает, — прервала мои размышления Блюменфельдова, которая заметила, куда я смотрю. — Но то, что здесь написано, — это правда.
— Что за прокол у нее вышел в «Факеле»?
— Ерунда. Там и было-то всего одно спорное предложение, но как раз его и выловили.
— А почему она его не заменила?
— Уперлась рогом.
— Понятно, — сказал я. — Так…
— Так это-то мне в ней и нравится, — перебила меня Даша.
— Мне тоже. Но ни ты, ни я не являемся последними инстанциями и…
— Да, но если мы будем в них это постоянно пропихивать, то в конце концов они обязательно проглотят, — сказала Даша и потом повторила в более приличном варианте свою идею-фикс: — Пора начинать пробивать достойные вещи.
Пробивать! Я с ностальгией подумал о тех библейских временах, когда от нас требовались только «да» или «нет». Тогда мы ничего не «пробивали».
— Ладно, поглядим. Говорят, ты получила положительный отзыв от Брата?
Блюменфельдова оживилась.
— Точно. А Цибулова сейчас уже не такая упертая, как в «Факеле». Она учла его замечания..
— Вижу, — ответил я и процитировал один подчеркнутый отрывок: — «В темноте она прижалась к нему, взяла его руку и положила на свои груди». Исправлено на «свою грудь». Это она издевается или честно не знает, кто такой Брат?
— Не волнуйся. Брат уехал за границу и запретил посылать ему рукописи, так что этого он больше не увидит.
— А зачем он вообще туда поехал?
— Разобраться, откуда ветер дует, — объяснила Блюменфельдова. — А когда он разберется, то не станет возражать против Цибуловой, потому что ветер дует вполне подходящий.
Она сказала это с абсолютной уверенностью, которая поражала меня в ней с самого начала и которая была ей свойственна во всех сферах деятельности. У меня-то ее не было, этой самой уверенности. Я уставился в рукопись, ничего там не видя. Как, значит, говорил шеф? «Молодая женщина… жизни не нюхала… одержимая… обработает нам половину редсовета…» — а что ее на это толкает? Что, черт побери, она с этого имеет, зачем пробивает рукописи о девушках аморального поведения? Будет биться за какую-то там начинающую писательницу так, точно от этого зависят судьбы мира! Одним писателем больше, одним меньше — да какая, черт побери, разница?! Вселенная стремительно приближается к тепловому взрыву, а если даже и нет, то жизнь все равно коротка и полна неприятностей… По спине у меня пробежал холодок. Какой-то ты будешь, опасная новая эпоха без техники безопасности?
Так что же все-таки движет Блюменфельдовой? Сама она не пишет, что сегодня почти анахронизм. Даже предисловия. Все свои литературные амбиции она концентрирует только в аннотациях. Да еще продвигает эти свои донкихотские книжки.
Хотя выглядит она скорее как Санчо Панса в женском обличье. Невысокая, пухленькая, не то чтобы красивая, но привлекательная, влюбчивая, с прекрасными еврейскими глазами. Она стояла прямо надо мной — ее благословенные груди вызывающе выставляли вперед свои соблазнительные соски, выпирающие из-под купленной в «Тузексе»[15]блузки; загорелой рукой Блюменфельдова опиралась о мой стол. На руке виднелась татуировка: цифры 8394771283. Жизнь она нюхала, тут шеф был неправ. После войны Даша провела три года в Норвегии, в каком-то пансионе для спасенных еврейских детей, там она в совершенстве выучила норвежский, что совершенно не пригодилось ей в редакции, и завоевала приязнь богатой бездетной еврейской супружеской пары, непрерывно снабжавшей ее тузексовыми бонами. Даша безоглядно ими спекулировала, так что жаловаться ей было не на что. В общем, жизнь наша Дашенька уже нюхала.
— Я это прочитаю, — сказал я. — И если все обстоит так, как ты говоришь, то буду рекомендовать.
— Золотце ты мое, — засмеялась она.
— Я осторожный. Тут ты права. Но иногда действительно лучше пробивать нужное поэтапно и не слишком торо…
— Да-да, я все поняла. У тебя это под стеклом. — И она ткнула своим замызганным пальчиком в латинскую надпись на моем столе, вырезанную из старого учебника. — Но теперь у нас начинается новая эпоха. — Она направилась к двери и оттуда еще раз мне улыбнулась. — Да, чуть не забыла. Я завтра свой день рождения праздную. Сколько стукнет, неважно. Приходи, компания подбирается что надо. И прихвати с собой ту девушку, у которой шуры-муры с шимпанзе.
Дверь захлопнулась. Барышню Серебряную. Ах, барышня Серебряная, вы вошли в мою жизнь как раз тогда, когда над ней вот-вот грянет буря гнева. Что ж, возможно, вы — доброе знамение. Возможно, грозовые тучи опять рассеются.
Я взялся за Цибулову. Пора было приступать к рецензированию.
Спустя десять страниц я и думать забыл о рецензии. Я просто читал. Об издании и речи быть не могло, это определенно, и Брат, какие бы там ветры ни дули, явно страдал приступами временного помешательства. Но текст впился в меня, как пиявка. Это не литература, твердил я себе, вот эта вот история девушки из семьи передовиков производства, на которую у родителей вечно не хватает времени. Сюжет был мне знаком: наш редакционный лауреат Жлува уже разрабатывал нечто подобное. Вот именно что «разрабатывал». У него в конце концов на сцену являлся коллектив со своим благотворным влиянием.
Здесь же мог явиться разве что ангел-хранитель. Наклонная плоскость, и девушка, скользившая по ней со скоростью бобслеиста. У Жлувы — социалистическая разновидность хэппи-энда. Здесь… здесь неважно «что», важно «как». Бесконечный треп ораторов, которые у лауреата Жлувы пережевывали бесконечные постановления, причем литературным языком, с едва заметными вкраплениями сленга. И нить воспоминаний, галерея героев и мест; никто никогда про них не слышал, но тем не менее они обладали силой исторической достоверности. Какой-то Возейк, который ходил в «Дерево» с Майдой отплясывать низкий рок-н-ролл, а эту Майду потом замели, потому что она обчищала дачи и занималась проституцией. И Бейк, снискавший себе славу тем, что пьяным провел ночь в танке-памятнике на Смиховской площади, загадил его и за это загремел в колонию.
И вот читал я это и чувствовал, как во мне, к моему ужасу, начинает шевелиться хилый червячок прежних юношеских амбиций. Черт побери, я тоже когда-то хотел так писать! И что характерно — о том же самом! Прежде чем я вовремя вскочил в лимузин литературы, я тоже знавал одного такого Бейка. Его звали Риша, и он промышлял воровством в универмагах. И я был знаком с Майдой, которую звали Кветуша и которая потом отправилась заниматься своим древнейшим ремеслом в немецкий концлагерь. Я хотел, но не писал. Вернее, я попытался. Но меня на это не хватило. Сначала дело никак не шло, а потом я уверил себя, что дело никак не идет. Я занялся поэзией. Родная земля, генералы, генералиссимусы. Пламя, знамя, революция с нами.
Мне пришлось положить рукопись на стол и заглядеться на бюст Ленина на шкафу со справочниками. Над ним висела на стене ленинская цитата. Тьфу! Ерунда какая-то. Блюменфельдова просто рехнулась. Мы не на луне живем. Так что пускай потом на меня не злится. Нет, но до чего же хороша эта Цибулова, такого просто не бывает. А оно есть. Что есть, то есть. Тут я готов снять шляпу. Хотя, с другой стороны, сколько их уже было, подобных шедевров — и где они сейчас? А мы — мы вот они. Нельзя поддаваться гипнозу какого-то там таланта. Вот товарищ Крал наверняка не поддастся. А если бы я и поддался, мне все равно бы пришлось потом поддаться товарищу Кралу. А я не могу этого допустить, особенно в нынешней ситуации, когда я хочу, чтобы мне поддалась барышня Серебряная.