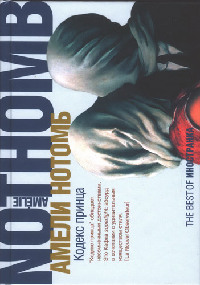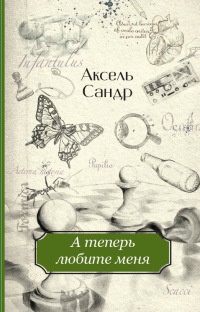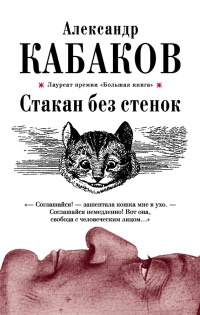Книга Токийская невеста - Амели Нотомб
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Когда коллективный экстаз прошел, я услышала, как сзади кто-то сказал:
— Ну, пора спускаться. Я считаю, что это трудней. Говорят, рекорд — пятьдесят пять минут. Не понимаю, как такое возможно, тем более что результат не засчитывается, если хоть раз упадешь. Нужно проделать весь путь на своих двоих.
— А как же еще? — спросил другой.
— Склон очень скользкий, и можно съехать сидя. На моих глазах так съезжала одна пожилая женщина.
— Значит, это не первое ваше восхождение?
— Третье. Мне не надоедает.
«Он уже не раз отработал свою национальность», — подумала я.
Слова его не пропали для меня даром.
Я повернулась лицом к солнцу и ровно в пять тридцать пустилась вниз. Я отключила все тормоза. Это было нечто невероятное: чтобы не упасть, ногам приходилось двигаться непрерывно, бежать по лаве, не останавливаясь ни на миг, а мозг в своей одержимости работал еще быстрее, ни на секунду не ослабляя бдительности; я хохотала, стараясь не шлепнуться в моменты скольжения, неизбежно ускорявшего темп; я была снарядом, выпущенным под восходящее солнце, своим собственным подопытным в баллистическом эксперименте, и вопила так, что чудом не разбудила вулкан.
Когда я спустилась на стоянку, не было даже шести пятнадцати: я побила рекорд, и еще как. Увы, его никто не зарегистрировал. Мое достижение навсегда останется лишь моим собственным мифом.
Я вымыла под краном лицо, черное от вулканической пыли, и попила воды. Теперь мне оставалось только ждать Ринри. Ожидание обещало быть долгим. К счастью, невозможно скучать, глядя на идущих мимо людей, особенно в Японии. Я села на землю и много часов подряд смотрела на своих новых соотечественников.
Ринри спустился, наверно, около двух. Он был едва жив от усталости. Но не моргнув глазом усадил меня в «мерседес» и отвез в Токио.
Назавтра он прислал мне двадцать две красные розы. К ним прилагалась записка: «С Днем рождения, дорогой Заратустра!»
Ринри извинялся, что он не сверхчеловек, поэтому не мог принести цветы сам. У него так разболелись ноги, что он не в силах был встать.
###
Спустя несколько дней Ринри позвонил мне и сказал, что его семейство на неделю уезжает. Он предложил мне пожить это время у него.
Я согласилась с опаской и любопытством — никогда еще мы не были вместе так долго.
Он приехал забрать меня и мои пожитки. Войдя в бетонный замок, я робко спросила:
— А где я буду спать?
— Со мной, в постели родителей.
Я запротестовала, мне казалось, что это неправильно. Ринри, по обыкновению, пожал плечами.
— Это все-таки постель твоих родителей!
— Они же не узнают, — сказал он.
— Но я-то знаю.
— Не спать же нам на моем односпальном футоне. Будет ужасно тесно.
— Других вариантов нет?
— Есть. Постель бабушки и дедушки.
Это подействовало. От отвращения к его деду и бабке я мгновенно согласилась спать на родительском ложе.
Оно оказалось гигантским водяным матрасом. Такие комфортабельные капканы были в моде лет двадцать назад. На редкость неудобная вещь.
— Интересно, — заметила я. — Тут надо двадцать раз подумать, прежде чем сделать малейшее движение.
— Чувствуешь себя как на каноэ в фильме «Освобождение».[24]
— Точно. Освобождение — это когда из него выберешься.
Ринри, задумавший какое-то хитрое меню, скрылся на кухне. Я отправилась бродить по бетонному замку.
Почему мне все время казалось, что на меня направлена камера? Я не могла избавиться от ощущения, что за мной следит незримое око. Я состроила рожу потолку, потом стенам, но ничего не произошло. Враг был хитер и делал вид, будто не замечает моих дерзких выходок. Надо быть начеку.
Ринри застал меня, когда я показывала язык какой-то современной картине.
— Тебе не нравится Накагами? — спросил он.
— Нравится, — совершенно искренне сказала я, глядя на картину, где все было погружено в потрясающую тьму.
Ринри, наверно, пришел к выводу, что бельгийцы всегда показывают язык картинам, которые их особенно волнуют.
На столе меня ждали восхитительные яства: шпинат с кунжутом, заливные перепелиные яйца с тисо, морские ежи. Я набросилась было на эту роскошь, но заметила, что Ринри не ест.
— А ты?
— Я это не люблю.
— Зачем же приготовил?
— Для тебя. Мне нравится смотреть, как ты ешь.
— Мне тоже нравится смотреть, как ты ешь, — сказала я, скрестив руки на груди.
— Пожалуйста, ешь, это так красиво.
— Я объявляю голодовку и буду голодать до тех пор, пока ты не принесешь себе еду.
Для меня было пыткой его огорчать и главное, бороться с искушением немедленно сожрать все эти чудеса, от которых я не могла отвести глаз.
Ринри уныло поплелся на кухню и вернулся, неся итало-американскую салями и баночку майонеза. «Нет, он не сделает этого!» — ужаснулась я. Однако он сделал: съел всю салями, намазывая каждый кружок сантиметровым слоем майонеза. Что это было: месть или вызов? Делая вид, будто мне все равно, я продолжала наслаждаться гастрономическими изысками, пока он кудахтал от удовольствия, поедая этот кошмар. Он заметил мое каменное лицо и ехидно сказал:
— Ты же требовала, чтобы я поел?
— Ну да, я очень рада, — соврала я. — Мы оба едим то, что любим, и это замечательно.
— Мне хочется пригласить друзей, чтобы представить их тебе. Ты не возражаешь?
Я не возражала. Решили, что вечеринка состоится через пять дней.
Были каникулы. За все это время я ни разу не вышла из бетонного замка. Ринри обращался со мной как с принцессой. На столе в гостиной, под картиной Накагами, он поставил для меня лаковую шкатулку с набором для письма. Мне было не по себе, я никогда не писала в таких условиях. Чтобы сочинять, ничего нет лучше дешевых принадлежностей, даже попросту бросовых. От лака потели пальцы, и я запачкала рукопись.
Ринри ошалело смотрел на меня, и моя ручка застывала в воздухе. Тогда он с умоляющим видом изображал, будто водит рукой по бумаге, показывая мне, чтобы я писала, и я поняла, что можно просто калякать что попало, раз ему это так нравится. Как герой «Сияния», я тысячу раз написала, что схожу с ума. Но за отсутствием топора не смогла доиграть его роль до конца.
До сих пор единственной известной мне формой жизни вдвоем была наша жизнь с сестрой. Но поскольку она мой полный двойник, это было не совместное существование двух разных людей, а скорее жизнь идеального существа в полном ладу с собой.