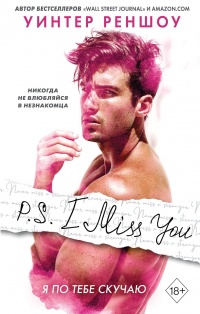Книга Слабых несет ветер - Галина Щербакова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Тихо, бесшумно Тоня стала готовить себя к отъезду.
Она сделает это без объяснений, потому что Павел удержит ее словами, которых она тоже не знает, и победит ее ими. Значит, надо тайком. Она купила большой чемодан, в который стала складывать вещи для ребенка, купленные тоже в переходах. Разные детские штучки, бутылочки, уздечки для первой ходьбы, пищалки и мягкие мелкие зверушки. Она узнала расписание поездов и наметила день.
Здесь, в Москве, она собиралась сходить еще разок к врачу и получить советы в дорогу и для другой жизни. Но раньше надо было купить билет. В очереди никто не пропустил женщину на седьмом месяце. Сказали: вы идите и сидите, вы заметная, мы вас припомним и скажем, что тут еще в очереди женщина с пузом. Она нашла место, чтоб видеть движение в кассу, но там очень дуло. Она не могла себе позволить простудиться, она пошла искать другое место, но всюду были люди, дети, мешки, углы чемоданов, и она вдруг вспомнила выражение: «Бедлам, как на Казанском». Именно на нем она и была. Ее что-то беспокоило, пока не поняла — неустройство всея Руси, именно дух, не запах, дух сдвинутой с места жизни. Запах же от дна вещей и дна людей, запах из того укромно спрятавшегося места, где в неглубокой ложбиночке плещется последняя надежда на последнее счастье, хотя ни первого, ни предпоследнего сроду не было, но плещется лужица веры, плещется, только бы кто не толкнул, не пролил ненароком. И пахнет она желчью, горечью. И все это: задевание за мешки и русский дух, что Русью пахнет, и страх заплутать среди лавок подняли в ней панику, которая так легко и непринужденно перешла в рвоту, и вот уже на нее стали орать, и эти открытые в слюне рты закружили ей голову, и Тоня стала падать, падать, хватаясь руками за воздух, думая, что это смерть, но почему-то не боясь ее, а даже как бы радуясь, что теперь не надо никуда ехать, потому что некуда, и не надо ничего объяснять Павлу, потому что не надо. Ничего уже не надо.
Очнулась она в медпункте, вокруг стояли женщины в халатах, и у них были тоже открыты рты, она была им некстати, она была жива, эта облеванная брюхатая сволочь, напилась, зараза, и что с ней такой делать? Убить мало! Вот эти слова как-то дошли до Тони, и она, готовая умереть по собственному желанию, тут испугалась, что ее убьют уколом, или таблетками, или еще как… И она закричала и потребовала, чтоб позвали мужа. Она вспомнила телефон. Потом она снова отключилась, только дух вокзала неуловимо шел в ноздри и дальше, поражая круче, чем радиация, ибо лишал воли жить.
Павел, примчавшийся на вокзал, не мог понять, как Тоня там оказалась, но тут к нему подошла в медпункт незнакомая женщина и сказала, что она предупредила и кассира, и очередь, что с беременной стало плохо, что она стояла, и когда вернется, чтоб ее пропустили как стоящую. «А то вы знаете, что у нас за народ». Павел ничего не понял, он связывался с больницей, номер которой ему дали, оттуда обещали прислать неотложку, и действительно очень скоро приехала машина, и он повел Тоню, которая была уже в себе, но в глаза ему не смотрела и на вопросы не отвечала. Ему объяснили, что с беременными такое бывает, депрессия и прочее. И еще сказали, что он мог утром сделать что-то не так, но даже мелочь могла прорасти и дать вокзальный результат.
Ничего такого Павел вспомнить не мог. Тоня всегда была молчалива (или задумчива?), это он сейчас сам задавал себе такие вопросы, и сам же на них раздражался, потому что не понимал, с какой такой хрени впадать в депрессию, если у женщины все в полном порядке, муж не пьет, не бьет, а уж что касается достатка, то тут все вообще о'кей. Где она жила раньше — в переделанном сортире, а сейчас — в Москве, в своей квартире. Павел начинал даже раздражаться, но видел тонкий рисунок капилляров вокруг Тониных глаз — сколько же их, Боже мой, и уже начинал пугаться: он боялся, что проглядел какую-то болезнь и Тоня не родит ребенка.
Ее отвезли в хорошую, спонсируемую нефтяниками больницу. Павла выставили, он позвонил на работу, и ему сказали: «Иди-ка ты домой, там знают, что делать, а ты выпей и ложись спать».
Первое, что он обнаружил в доме, был открытый, почти заполненный для отъезда чемодан. Значит, та тетка, что говорила ему про очередь в кассу, не врала. Тоня собиралась уезжать. Куда? Зачем?
Нет, он не стал пить, он лег на спину, чемодан был в уровне его обзора, из него торчали лапки плюшевых зверушек, сверху лежал безобразно-серый халат с неоторванной биркой. Бирка была из тех, что сопровождали нас всю жизнь — коричневый грубый прямоугольник на белой суровой нитке, продетой в пуговичную прорезь. Вещи всегда были куплены у теток из переходов, пропитым голосом зазывавших на продажу самых-самых последних вещей со склада. «Почти даром». Павел старался их обойти, но они всегда торчали на ступеньках выхода из метро, и эти бирки почти звенели, хотя как может звенеть бумага? — в его ушах. Значит, Тоне они не звенели. Именно эту загадку он хотел понять. Он ведь без иллюзий. Он знал, что их разделяет та пропасть, в которой канули его и ее детство и юность. Где-то там, на дне воспоминаний, они сейчас были вперемешку, как мусор в контейнере. Его Ленинград, его кони Клодта, которых он видел с младых ногтей. И ее окраинная жизнь с вонючими деревянными уборными, с вечной нехваткой самого простого — пшенной крупы там или картошки. Он понял сейчас, что, пройдя после развода кусок ее жизни, пройдя неустроенность и грязь, он тем не менее легко вернулся в жизнь чистую, устроенную, он перешагнул горе прошлого радостно и с надеждой. Он стал прежним, кони Клодта смотрели в его окно, и юноши, натягивающие поводья, были сильны и умелы. Ему приятно было вести за собой женщину-неумеху — умех он видел, с ними у него не получалось. Он был рад дать ей недоданное в жизни, и он хотел за это многого — дитя. Взамен той девочки, которую терял дважды. Один раз — при разводе, а второй раз — уже окончательно. Он верил, что Тоня будет хорошей матерью, а он создаст им мир, в котором им будет комфортно. Что же тогда случилось с Тоней? Почему она хотела от него бежать? Боль сжала сердце, настоящая, не мысленная, пришлось встать, чтоб положить в рот валидол, но боль не уходила. Наоборот, она исхитрилась угнездиться в нем, но он уже понял, что это не сердце, что это стонет душа — совесть. Эта парочка хлопает в нем крыльями, крича ему о его вине, а может, и зле, которых он в упор не видел и не чувствовал за собой.
Тогда он встал и стал ворошить чемодан, ища в нем ответа. Его руки вытаскивали пинетки нежнейшего белого цвета, бутылочки со светловолосыми младенцами. Всего было много — Тоня оснащала своего нерожденного дитятю всем лучшим, прикрыв это лучшее отвратительным халатом для себя.
Но как же можно, где логика: желая ребенку всего самого лучшего, тащить его в барачную выгородку и пьянь?
Чего ей тут не хватало? Какого рожна?
Он стал вспоминать своих женщин, собственно, особенно вспоминать было нечего. Ну, с женой как бы все ясно. Потом были просто женщины без лиц, от всех или почти от всех всегда пахло вином. Как теперь говорят, вино и женщины в одном флаконе. Некоторые возникали дважды или трижды, но потом растворялись в миру.
Он бы сейчас не узнал ни одну. Нет, одну бы узнал. Москвичку, к которой ворвался как тать какой, а она ему постелила на узкой кроватке, а потом пришла сама. Он так и не узнал, как ее зовут. Так сказать, переспать переспали, а вот до знакомства дело не дошло. Но тогда он просто ошалел от нежности, от приятия ею его всем телом, всем существом. Он тогда на сколько-то минут, секунд забыл о своей беде, растворив ее в незнакомке.