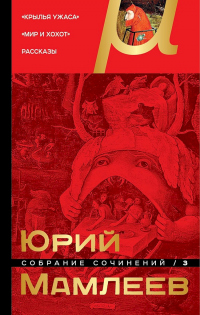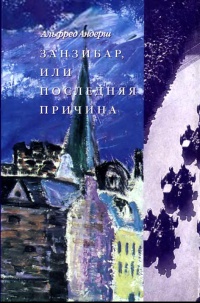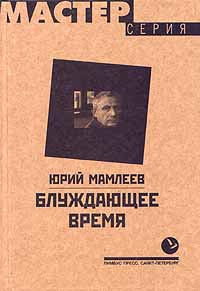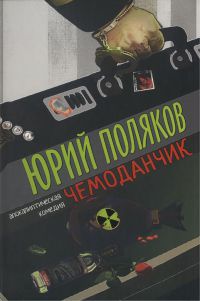Книга Собрание сочинений. Том 2. Последняя комедия. Блуждающее время. Рассказы - Юрий Мамлеев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Конец длинного коридора строения номер восемь, что в Лианозове по Пыльной улице, делает загиб, образуя тёмный угол, вернее, обширный закуток, в котором пять или шесть комнат-квартир. Рядом, в глубине, собственный клозет с несколькими толчками. Но решительнее толчков здесь выделяются лица людей. Да и сами обитатели хороши. Они выходят из тьмы, как одеревенелые боги неизвестного, тайного племени.
Взять хотя бы Саню Моева. До описываемых здесь событий никто о его внутренних странностях и не слыхивал. Если не считать, конечно, пения рожка. Но об этом сам Саня охотно и, пуская слюну, рассказывал по вечерам. Дело состояло в том, что когда он мочился (а мочился Саня по нескольку раз в день), то неизменно откуда-то из глуши — только для его уха — раздавалось таинственное пение рожка. От этого у Сани не раз бывали нервные расстройства, и он пытался даже расчёсывать свой член гребешком. Больше никто ни из какой глуши пение рожка никогда и не слыхивал. Хотя сам Саня просил подслушивать. На последнее особенно клюнула сластёна Евгения — гибкая женщина лет тридцати, жиличка комнаты номер три. Именно благодаря своей сладостности. А сластёной она действительно была до абсурда и даже после половой оргии подмывалась компотом. Её били за это, ругали, но она от себя никогда не отказывалась. Часто, особенно летом, только прослышав, что Саня, тяжело крякая, идёт в дворовый клозет, она выскакивала из своего окна, туда, где бледное небо и просторы, и настраивала своё ухо на «глушь». Оттуда, из «глуши», и доносилось до Сани нежное, хотя и немного диковатое пение рожка.
Но сама Евгения никогда ничего не слышала. Нередко, вернувшись в комнату, она залезала в слезах под кровать. И какие-то томные запахи порой через полураскрытые двери доходили до нюха одиноко бродивших по коридору обывателей.
Её муж — Миша — жил рядом, в углу и, наоборот, никогда не шевелился ни на какие знаки. Это было потому, что вся чувствительность Миши сосредоточилась в половой сфере. В быту, в обыденной жизни, он даже надевал на свой член байковый чехол, который заботливо сшила ему родная сестра. А во время соития часто кричал: «Ой, мама… Ой, мама!»
Отпадали также угрюмая старуха Анфиса, любившая в жизни только плясать, и работящий мужик Григорий, который (по отключённости своей) с течением жизни потерял членораздельную речь, объясняясь занырливо, односложно и улюлюкая, как живая труба. Напротив, единственный интеллигент в закутке-коридоре, несколько странный Семён Петрович, прислушивался. Однако ж ничего не слышал. И после этого, как правило, пытался писать свои доносы на кошек.
Жена Моева — Груня — не принимала всерьёз слух о пении рожка; она, мясистая и пристукнутообразная (в здоровом смысле этого слова), на вопрос о моче и рожке только повторяла, выпятив на собеседника вместо глаз огромные груди:
— Санька уврёт… Уврёт Санька… Ничего не было.
И после этих слов всем хотелось выть. Выть, потому что такой уж был у Груни голос.
Но больше всего нервозен Саня становился, когда пение рожка связывали с его платонической возлюбленной Евдокией, у которой от разврата выпали почти все зубы и которую Саня в мечтах своих особенно выделял. Эта тридцатипятилетняя женщина жила у самого края закутка и любила петь. «Горемычная», — говорила о ней бабка Анфиса, проплясав.
На бабку иногда нападали приступы слезливости, и тогда она, промелькнув вонючей тенью, неслышно заскакивала к кому-нибудь в комнату и, подобравшись сзади, тяжело клала руку на плечо, что-нибудь просюсюкав потом. Жильцы шарахались, порой падали, но Анфиса отвечала:
— Родные мы друг другу… Родные… Ведь в один тувалет ходим, один… Да после этого мы все друг другу матеря, — и убегала, оскалясь.
Итак, кроме пения рожка, на виду вроде не было особенных тайн. Исключая намёки. Например, около строения, поскольку место было полупригородное, стоял общественный курятник, где держались подсобные куры. Да и вообще, на воле гуляло много кур, принадлежащих Бог знает кому. Из-за этого, между прочим, часто бывали драки.
Но однажды… Впрочем, день этот начался как обычно: с очереди. Дело в том, что клозет в закутке коридора был единственный на весь этот бесконечно длинный, с заворотами, коридор, и хотя в клозете стояло несколько толчков, как в женской, так и в мужской половине, всё равно трудно было уложиться, и, по множеству жителей, порой, особенно в часы пик, возникали огромные очереди. Некоторые приходили с книжками, с картами строения мозга, с научными брошюрами о том, что ни Бога, ни души нет. Надо было скоротать время, а науку любили все, тем более что иные работали специалистами. Гоготали, обменивались мнениями о том, что ничего нет, хлопали друг друга по задам. Впрочем, не всегда. Иногда возникала мертвенная, нелюдимая тишина. Как в могилах, из которых ушли покойники. Только вдруг возникавшие визг и полудраки напоминали о жизни, о бытии.
На этот раз всё было сумрачно и одиноко. Даже плакат о том, что «нет загробного мира», упал на пол. Груня, супружница Сани, стояла в очереди уже полчаса. Терпение кончалось. Она была последней. Как только распахнулась клозетная дверь под буквой «Ж» и выскочила рваненькая старушонка с газетами, Груня забежала внутрь.
В этой кабине было почему-то два толчка, почти рядом, и на одном из них сидела профессорша, не жена профессора, а сама специалистка, оказавшаяся по воле судеб в этой коммунальной квартире. Груня, мысленно харкнув, юркнула на толчок, который заскрипел. Профессорша изучала карту головного мозга и до того была погружена в своё занятие, что плакала. Она думала о том, что, наконец, нашла в мозгу человеческую индивидуальность, и теперь в сотый раз доказано, что души нет и что всё содержится только в мозгу. Грязные слёзы, слёзы счастья, текли по её щекам, и она вспоминала, как трудно ей приходилось в этом практическом мире из-за слишком большой направленности её работ на идеальное, на теорию, на Добро, а не на святую практику по обработке действительности. Груня, отличавшаяся стыдливостью, чуть не уснула — для защиты — под слёзы и всхлипы профессорши. В последний момент, перед соскоком, Груня вспомнила, что надо подтереться, и механически сунула руку в щель, где хранились газеты. Оцарапав кисть, она рванула что-то вроде тетради и вместо газет на самом деле увидела тетрадку, на обложке которой слезливым почерком было написано: «Интимный дневник Саши Моева».
— Ну и ну, — обалдела она и чуть не плюхнулась вниз. — Надо почитать.
Но то, что Груня прочла в первых строках, так поразило её, что, грубо соскочив с толчка, — под возмущённый вопль профессорши, которой помешали думать, — она убежала в свою комнату. Но и в комнате туман (который она почему-то назвала «научным») плыл перед её глазами. Сквозь «научный» туман выплывали строчки, а больше всего мокрые места на тетрадке, явно напоминавшие размытые слёзы.
Слова же были совершенно несусветные, вроде: «Пеструшка сегодня опять не дала… Весь вечер тайком гонялся за белой курицей… Весь живот в пуху… Как больно клюётся петух… За что?». И кроме того, было нечто совсем неприличное.
Наконец Груня ахнула, но тут же подумала, что её наверняка разыгрывают. Пожевав язык, она вспомнила, что Саню действительно недолюбливал большой серый петух, надутый и надменный, который частенько подскакивал и клевал его в зад. Саня не раз скрывался от него по чердакам. Решив, что такая дурашливость петуха очень некстати пришлась к этому розыгрышу, Груня решила всё-таки в намёке расспросить соседей. Она сразу же направилась в клозет, к думавшей профессорше. Мимо просеменил запоздавший старичок с ночным горшком.