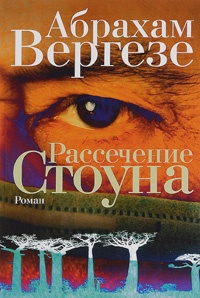Книга Живи и радуйся - Лев Трутнев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Девуни-то наши будут яйца варить, венки заплетать. Вот бы угадать где…
В ночь перед Троицей у кого-нибудь в избе собирались на ворожбу девчата – «на девичьи ссыпчины» и за неимением иных лакомств варили в чугунке куриные яйца, в складчину: кто сколько выпросит дома или возьмет тайком, чтоб было незаметно. Сваренные яйца катали среди венков на травяной поляне, загадывали судьбу – «крестили кукушку, венчали березку». А днем в избах ставили по углам срубленные в лесу молодые деревца. Вряд ли кто тогда доподлинно мог толковать значение и правильность исполнения тех обрядов, но держалась еще святая вера во многих семьях, в людях, хотя власть и не одобряла, охаивала, отрицала те традиции. И больший интерес к этим «зеленым святкам» имела молодежь – улыбалось заделье еще раз перед летней страдой поиграть, похороводиться, опохнуться духом таинства прошлых веков, ощутить себя как бы во временном сдвиге…
– Давай Катюху допросим, – по-своему понял мое молчание Паша. – Она должна знать…
Медленно, как из далекого прошлого, возвращалось сознание из охвата недавних дней, сушивших его в плену сиюминутных хлопот, однообразия горячичных ощущений, тянуло свежие мысли, рождало светлые образы.
– Не-е, Паша, – шевельнул я сухим, будто разбухшим языком. – У Катюхи ничего не вытянешь, бесполезно.
– А ты схитри, польстися.
– Ишь чего захотел – обмана. – Вряд ли она что знает: рановато ей еще в эти игры влазить.
– Рано, но знает…
* * *
Гулянье собралось у дома Федюхи Суслякова. Вынес он гармошку, сел на старые, обросшие ржанцом бревна, запасенные в довоенное время на новую избу, и заиграл, заявив, что никуда не пойдет.
После месячной разлуки мы удивлялись друг другу, находя изменения в облике, в голосе, в манерах… Вскрики, оживленный говор, смех – даже гармошка не заглушала, и хотя не густо собралось молодежи, в основном близкой к совершеннолетию или чуть поднявшейся над этим пределом, а все веселее. Важничали мы, осознавая себя в силе, в почете, во внимании, давшихся нам как бы в награду за те изнурения, что пришлось вынести вровень с другими, взрослыми людьми, в столь важном деле, как посевная. Эти чувства поднимали нас над остальными, над юной мелкотой, хорохорившейся тут же.
Пашу сразу утянула в круг танцующих зазноба, а я с Мишаней повел разговор о том, как бы повеселее открутить подаренный нам вечер. Те тревожные дни, связанные с воровством семенной пшеницы, мы, как по уговору, старались не вспоминать.
– Пашка вон гнет коленки, – кивнул на друга Мишаня, – и наверняка у Лизки ворожба затевается. Я видел, как ее отец с матерью в Изгоевку направились под вечер. У них там родня…
Слушал я, а сам невольно искал взглядом Катюху. Тоненько-тоненько дрожал в груди сторожок ожидания, будто кто-то сердца касался, тотошкал его ласково, нежил…
– Сейчас попляшут, попляшут для отвода глаз, – строил догадки Мишаня, – а потом втихаря, по одиночке, начнут смываться.
– Если Лиза верховодит, – поддерживал я разговор, – то от Паши не так просто открутиться, выследим…
Горячая дрожь осекла мой голос – тонкую, прямую, как молодая березка, увидел я Катюху на подходе к танцам и притих. Мишка уловил и мой сбой в разговоре, и устремления моего взгляда и сразу как отсек:
– Рановато она заневестилась. К добру это не приведет.
– Ничего, Кособок, – я будто налился светом, небывалой легкостью, притаил голос, – пусть невестится под моим надзором.
– А не уследишь…
Дальнейших слов Мишани я уже не слышал, вернее – не принимал сознанием, отходя от него навстречу той, что высвечивалась для меня особым светом среди других…
* * *
Я припал у окна, устремляя взгляд под белесую занавеску. Паша забрался на крышу, к трубе, с пластом дерна, а Мишаня затаился у входной двери – ждали мы того момента, когда девчонки, закончив ворожейную канитель, потянут из печи чугунок с вареными яйцами.
Выследили мы все же их затайку и решили подурачиться немного – завладеть заветным чугунком. А чтобы все было тихо, надежно, на его захват из всех приятелей нарядили нас троих…
В промежуток между краем занавески и подоконником мне видно было, как суетились девчонки возле стола, о чем-то шептались, даже спорили, но через окошко слов было не разобрать. Раза два Лиза выскакивала из общего круга и, отодвинув заслонку, заглядывала в печь, в которой ярился огонь…
Текла ночь, затаенно билось сердце. Долетали с приозерья голоса токующих птиц. Реденько и ненадолго выигрывала что-то гармошка в дальнем краю старой улицы – Федюха с кем-то из девчат коротал ночь и все. Запах напревшей смородины, каких-то цветов… Забавно, таинственно-тревожно…
Наконец Лиза взяла ухват и, потянув из печки чугунок, поставила его на загнетку. Сиганул я из палисадника через рядок смородины, засвистел. Паша тут же закрыл трубу пластом дерна. Видно было поверх занавески, как дым шибанул в избу, заволок всю кухню. С визгом стали выскакивать на свежий воздух девчонки, а Мишаня, наоборот, – мимо них в избу, схватил чугунок в полу пиджака и деру. Паша, смахнув пласт с трубы, как скатился с крыши, и мы кинулись в Агапкину рощу. Мишаня пыхтел сзади – с горячим чугунком, полным яиц, не разбежишься. Одна из девчонок, наиболее шустрая, настигала Мишаню. Вот-вот могла схватить за пиджак. И тогда Мишаня каким-то образом вскочил на ствол искривленной березы на краю рощи и стал неуклюже карабкаться по ее толстым сучьям вверх. Остановились мы, остановились девчонки, уже гурьбой настигшие нас. И тут Мишаня вскрикнул и сорвался, роняя ношу. Чугунок кувыркнулся. Яйца из него сыпанулись белым градом в траву… Здесь и орава наших ребят подоспела, завязалась кутерьма: визги, крики, хохот…
– Бок припалил, – жалился Мишаня, когда, мы его, похрамывающего, подняли из травы. – Лезть-то неловко, я и прижал чугунок поплотнее.
– Теперь ты точно Кособоков, – подтрунивал над ним Паша. – Хорошо что низко было, а то бы еще горб нажил…
В играх, в восторге общения проходила ночь. Но как ни горела душа в задоре пылких забав, а все кончается, отлетает, и в какое-то время накатывается жажда новизны.
Уснувший лес натянул прохладу, волнующие запахи, тронул память иным восторгом. Еще во время сева, пока мы заводили трактора и тишина весеннего леса нарушалась лишь голосами птиц, слушали мы токование косачей. Воркующий перелив их пения натекал отовсюду, а один ток обозначился где-то за ближними ивняками, и по горячему, взахлеб, азарту ясно было, что токовище густое, крепкое, и горели у меня мысли о том, что отойдет посевная, порадуюсь я тому токовищу, насижусь на нем досыта. И вот он – этот момент! Момент перевертыш. Вытянул я Катюху из круга девчат и сказал о своем намерении.
– Возьми меня с собой! – загорелась она. – Посмотреть охота!
– Ты что?! Там комары, как лошади, и волки шастают, – пытался я припугнуть Катюху. Да разве отговоришь ее, огневую, образумишь! Куда там! Пойду и все. Что ты будешь делать?! Мне бы тайком сбежать, да не по-доброму это – бросать девчонку. Махнул я рукой, а самого обволокло сладким угаром, мысли спутались в противоречии, голова погорячела. Не осознать ту глубину непонятной радости и тревоги захлестнувших меня одномоментно. Как их измерить? Где? Какой истиной?.. И не было мне спокойствия до тех пор – пока мы не пришли на токовище.