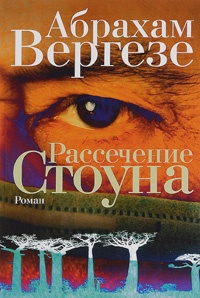Книга Живи и радуйся - Лев Трутнев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Под брезентухой были, в кустах, – срывающимся голосом оправдывался Васик, понимая, что и с него, как со старшего, может спросится, да еще как.
Паша молчал, поеживаясь.
– Вам что, – будто угадал мысли Васика полевод, – отделаетесь легким испугом, а меня возьмут в оборот, устроят небо в овчинку…
Каждый по-своему переживал этот ожег, но на скамейку под навес мы уселись все вместе. Начались прикидки: кто да как?
– Где лежали мешки, знали только вы да Мишка Кособоков, – рассуждал Красов. – Надо спросить, может, он про них кому ляпнул…
От зернохранилища, что в деревне на хоздворе, к нам, на пашни, подвозил мешки с зерном Мишка Кособоков, давший согласие идти в ФЗУ, но пока оставленный на неизвестное время, и о нем шла речь.
– Откуда в лесу да еще в дождь постороннему взяться? – высказал и я свое мнение. – Ясно, что кто-то из своих спакостил…
– И Грунька Худаева семена отпускает – тоже могла интересоваться, – гадал Васик. – Главно, никаких следов, как испарились. Мы с Пашей весь околок обшарили – пусто. Их же так просто не унесешь – считай больше трех центнеров в общей кучке. Подвода нужна…
Гадай – не гадай, а шесть мешков семенной пшеницы потянут и на несколько лет судимости…
Прервал наши предположения лошадиный храп. В промежутке между колками показалась повозка.
– Вон и Разуваев явился, – как выдохнул Паша.
– Учуял, что ли, недоброе – первый раз за все время…
Ходко нес тележку с кошевой сытый жеребец, грыз удила.
– Прохлаждаетесь, – осадив коня, без зла в голосе крикнул бригадир. – Земля подсыхает – можно и начинать сеять.
– Можно, да осторожно, – отозвался Алешка, – этот колесник, – он кивнул на наш трактор, – на подтяжке – шатуны лязгают, а у того звена пшеницу сперли.
– Как? – Разуваев даже вожжи уронил на колени. – Кто?
Красов развел руками.
– Видно, ночью, в дождь – никаких следов.
– Ах, едрит твою в корень! Вот это новость! Думал баба, а то коза! Это же срок!..
Слушал я словесные выкрутасы Разуваева и что-то неискреннее улавливал в злых фигуральных выражениях с матюгами, и легкое подозрение потянуло мысли к прошлому. Но для чего Разуваеву топить Красова? Скорее бы наоборот: Разуваев влез в его отношения с Грунькой…
– Гляди, Алексей, – горячился начальник, – я тебя покрывать не стану: такие концы не спрячешь. Почти четыре центнера отменных семян в самый разгар посевной! Не посчитаются, что ты фронтовик!..
Не сразу утих этот острый, трясущий душу разговор. Кроме растерянности, переживаний, перерастающих в страх, он никому и ничего не принес. Начнут таскать, допрашивать, грозить… Эх, изловить бы того гада, который так подрыл под нами землю! Да как?!
3
Дня через два приехал из райцентра следователь. Тот самый, лысый, что зимой тянул из меня жилы. И началось: дело ни в дело, жизнь ни в жизнь – хуже некуда…
Погода устоялась как по заказу: солнечная, тихая, теплая. Сей себе и сей, но не тут-то было. Едва мы позавтракали с рассветом, как у стана застучали колесами сразу две повозки: впереди Погонец со следователем в новенькой кошевке, сзади – Разуваев.
Лысый очкарик, осмотрев весь наш стан вместе с Хрипатым, съездил с Васиком к тому месту, где лежали мешки с семенами, и, отогнав всех к коновязи, у которой стояли повозки, стал засупонивать нас по одиночке прямо за обеденным столом, под навесом.
Те же холодные, ничего ни выражающие глаза, тот же ровный негромкий голос, та же манера вести разговор с хитринкой… Меня он узнал сразу:
– И здесь ты, Венцов, не в ладу с законом. Зря, выходит, за тебя военком заступился…
Но теперь он был в моей деревне, и я почти не пасовал перед ним.
– Я тут при чем? Не у нас зерно украли.
– Не у тебя, но артель ваша общая… И пошло, и поехало…
Два дня, пока следователь квартировал у Хрипатого, деревню лихорадило – в сельсовет таскали всех, кто хоть каким-то образом был причастен к семенам, к посевной, к тяглу. А у Алешки Красова весь двор прощупали с понятыми, и мытарили его больше всего.
Мы после того дня и не видели нашего полевода. Уехал следователь и Красова увез, и пошли слухи, что тюрьма нависла над ним. Что удалось выяснить лысому очкарику, никак не просочилось к деревенским знатокам. Каждый, кто был у следователя, помалкивали про то, о чем их пытали, получив наказ держать язык за зубами. Не разговоришься в таком разе – не то время: петля закона у каждого за спиной… Но все же одна думка, похожая на зацепку, появилась у меня с Пашей.
Мишка Кособоков рассказал, что тогда он подъехал на бричке к зернохранилищу за семенами, и едва притулил быков к загородке, как дунул проливной дождь. Бросив быков обмываться, Мишка сунулся в сумрачную прохладу зернохранилища, а там Иванчик Полунин с Грунькой Худаевой обнимаются на ворохе пшеницы, и если бы не хлопнула дверь, они бы и не обратили внимания на возчика. Вскочил Иванчик и к Мишке:
– Иди, сказал, домой, в дождь сеять не будут, а я быков сам на ферму отведу. – И подталкивать Мишку к дверям, хотя на улице дождик полосовал во всю. Но он заведующий фермой, как перечить… Согнулся Мишка в дугу и бежать к дому…
Сразу вспомнилось, как Хлыст упал в крапиву после удара в ухо, как кричал угрозу…
– Обиженные спаровались, – согласился с моими предположениями Паша. – Что Грунька, что Хлыст – одного поля ягода, с гнильцой. Они и придумали позычить зерно: и дождь, и ночь, и бричка под руками, – продекламировал он, сам того не понимая.
Но не пойман – не вор. Где доказательства? Одни догадки. Проявил к ним некоторый интерес лишь Ван Ваныч, когда мы к нему нагрянули, хотя сказал то же самое.
4
Дни пролетали солнечные, жаркие, безветренные, в угаре лихорадочной спешки, с потом, пылью, надоедливым гнусом… Тяжелые, долгие они накладывались друг на друга с одной и той же усталостью, одними и теми же чувствами. На стане лишь хватало сил смыть с лица слой пыли, делающего нас похожими на обезъян, да на то, чтобы донести до рта ложку с кашей. А если проявлялись дни с пестротой облаков на выцветшем небе, с менее выматывающим жаром, то мы с дрожью во всем теле доставали из колодца ведро с водой и, поливая из него друг на друга, обмывались по пояс, цепенея от холодного ошпара и захвата духа. И тогда спокойнее спалось в ночной духоте: без тревожного метания, невнятных вскриков и зубовного скрежета.
В отлете этих нанизанных на наши мучения дней истаял май, засветился передых от посевной: выметали главное – пшеницу, а всякие там овсы – дело второе. На Троицу – непризнанном властями, но всегда почитаемом в народе святом празднике, дали нам на обмыв тела и душевного успокоения два дня.
Исхлестали мы с Пашей в бане по венику, пропарились до каждой жилки и косточки. Даже дед покрякивал одобрительно, моя себе голову на лавке, когда мы лили из ковша на каменку. И словно выгналось из меня нечто тяжелое, ошершавленное, злое – то, что жило во всех клеточках тела, захлестывало дух. Легче легкого, вылетной бабочкой почувствовал я себя, осветлел мыслями, отмяк сердцем, а тут Паша заласкал слух интригующими словами: