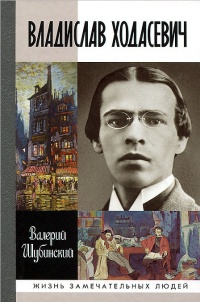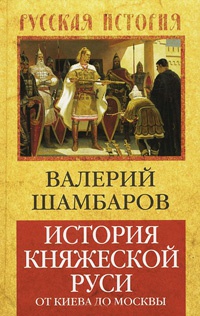Книга Лета 7071 - Валерий Полуйко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В палате враз догадались, что в сенях гудет скоморошье игрище – чему бы иному еще там затеяться, с бубнами да сопелями, – и уж, конечно же, знали все, что не без царской воли завели скоморохи свою игру: не будь на то царского благоволения, всю эту бесовскую братию не то чтобы в царские палаты – в Кремль не запустили бы. Они и сами не посмели бы явиться: без царского покровительства их ждала печальная участь – застенок, батоги… Церковь яростно ополчилась против неугодных ей потешников, да и царь не перечил в том духовенству – сам с ними на священном соборе решал, как это антихристово племя поизвести, чтоб не развращало оно христианских душ своей богопротивной, языческой игрой, а только ни один царский пир не обходился без ученых медведей, без гусельников, без плясунов, без машкарников[231]… Разыскивали их для царя по всем русским землям и везли в Москву, где и уряжали по его тайному приказу на постоянное жительство в дворцовых подмосковных селах и слободах, чтоб быть им при всякой нужде в них всегда под рукой.
Палата ждала терпеливо, почтительно, с тревожным усердием прислушиваясь к веселой колготне в Святых сенях. Сесть уже никто не решался, и, должно быть, продлись вся эта катавасия в Святых сенях весь день, весь день так бы и простояли, терпеливо и покорно, не смея преступить того сурового запрета, что сами на себя и наложили. Но вот дверь резко, как от удара, растворилась, будто ее вышиб скопившийся за ней шум, и в палату с задорным посвистом и гиком ввалилась гурьба скоморохов, за ними, вальяжно пританцовывая, – два громадных медведя, подпоясанные красными кушаками, за которые их придерживали поводыри. Вместе с медведями – машкарники… Маски на них – одна другой уродливей, одна другой потешней! Расплясались, запрыгали вокруг медведей – неистово и глумливо, словно передразнивали своих косолапых помощников.
Скоморох в козьей маске особенно яро поддразнивал медведей своими кривляниями и бубенцами, навешанными на рога маски. Медведи подревывали, роняли слюну – должно быть, устали уже косолапые плясуны, но скоморох не отступал от них, бодал, рвал на них шерсть и уже не раздразнивал – разъярял!
Вдруг один из скоморохов, в ярко раскрашенной маске, бросив плясать, смело направился к боярскому столу. Подойдя к боярам, он так же смело и решительно цапнул за кафтан стоявшего с краю боярина Шевырева и потащил его за собой. Шевырев уперся, гневно отшиб руку скомороха, оправил кафтан, вернулся к столу. Лицо его взрдело от гнева. Но скоморох не отступился, и гневное сопротивление боярина не обескуражило его: он еще решительней ухватил Шевырева и яростно потащил его от стола, но вдруг, словно опомнившись, брезгливо и гневно оттолкнул боярина от себя и сорвал со своего лица маску.
Шевырев остолбенел – перед ним был царь.
– Гос… гос… – попытался что-то сказать Шевырев – то ли «господи», то ли «государь», но язык не слушался его.
Иван утробно хохотнул, давя в себе злобу.
– Ступай плясать, боярин, – сказал он привередливо и властно и подтолкнул Шевырева. – Потешь нас!.. Мы же тебя потешили, сплясали тебе!
Шевырев обреченно поплелся к скоморохам.
– Вам – також!.. – подскочил Иван к боярскому столу. – Також велю плясать!
В его голосе, во взгляде, в каждом его движении была та исступленная, хищная ожесточенность, которая в последнее время все чаще и чаще стала проявляться в нем. Да и весь он был как-то необычно, болезненно возбужден: глаза воспалены, угарны, лицо разгоряченное, ощерившееся злобой и мальчишеской проказой, но тоже какое-то нездоровое, усталое, даже изможденное, как будто перед тем, как явиться в палату, он побывал в жестоких руках заплечника.
– Ну-ка ты, Шеремет… Что зеньки пялишь?! Ступай, потешь своего государя!
– Да уж стар я плясать, государь…
– Стар?! На пир, однако ж, приперся! Лежал бы тогда на печи!
– Так зыван же был… тобой, государь!
– Зыван!.. – дернулся яростно Иван и покачнулся, и стало видно, что он изрядно пьян. Должно быть, уйдя с пира, он не лег почивать, а призвал к себе в палаты скоморохов и, вырядившись в их потешные одежды, взялся с ними беситься и пить. – А зыван ты был на мое государево дело!.. А? Болящим сказался! Ведаю я ваши хворобы! И молчи, не отпирайся, – отмахнулся Иван от Шереметева. – Все равно ни единого слова от сердца не скажешь. Не гневи Бога, он и так тебе смерти не дает!
– Твоя правда, государь, – покорно промолвил Шереметев.
– Вот кто потешит меня! – подскочил Иван к Репнину. – Ну-ка, Репа, поусердствуй!.. Да машкару надень! – Иван приставил к лицу Репнина свою маску. – Меня ею в Торопце одарили.
Он принамерился надеть на Репнина маску, но тот решительно, с суеверным, брезгливым страхом отвел ее от себя, сурово, вразумляюще сказал ему:
– Я христианин, государь, и бесовским действом не стану сквернить своей души.
– Полно, Репа!.. Мы в единой купели крещены.
– Тем прискорбней… для тебя, государь.
По скулам Ивана прометнулась злая судорожь, на лицо выбрызнула горячая чернота и медленно стекла к губам. Он куснул их, как будто хотел обгрызть эту спекшуюся чернь, куснул раз, другой – и вдруг улыбнулся…
– Ты веди еще не стал моим шутом, Репа, чтоб речи такие вести, – сказал он с привздохом, сказал спокойно и скорее осуждающе, чем с предупреждением. – Я могу и оскорбиться твоей холопьей дерзостью.
– Прости, государь, мою дерзость и искренность, – сказал, побледнев, Репнин, – но с чего бы тебе оскорбляться, над моею душой глумясь?!
– Полно, Репа… – Иван вновь куснул спекшуюся чернь на своих губах. – Побереги душу свою от иного греха, коего и в иордани[232] не очистить… От противления своему государю! Я велю тебе плясать… Слышишь, велю! Велю! – пьяно вскрикнул Иван и топнул ногой.
Репнин стоял бледный, молчал; упрямые, строгие глаза его были полны слез. Иван взмахнул рукой, подозвал слуг, повелел им надеть на Репнина маску. Репнин не сопротивлялся, он как будто смирился…
– Ну вот, давно бы так! – захохотал Иван, потешенный видом Репнина. – Дурак ты, Репа, не ведаешь, в чем твое истинное призвание. И душу бы свою устроил! – вновь захохотал Иван. – Ин шуты, как и блаженные, наследуют царство Божие. Ну, ступай, ступай попляши!.. Что стоишь истуканом! Уноровишь нам, так мы тебя пожалуем!
Репнин сделал несколько медленных, покорных шагов, однако видно было, как мучительны они для него, словно он ступал по своей собственной душе, брошенной ему под ноги. И не смог он превозмочь этой мучительности – остановился, сорвал с себя маску, бросил ее на пол, принялся с остервенением топтать ногами.
Иван с откровенным ужасом смотрел на исступившегося Репнина: видать, его и вправду напугала столь яростная непреклонность боярина. Чего угодно ожидал он, но только не такого и только не от Репнина… Страх и растерянность вышибли из него всю спесь. Он как-то тревожно и затравленно сжался – должно быть, от ощущения своей беспомощности. Уж не подумалось ли ему в этот миг, что вслед за Репниным сейчас поднимутся против него и остальные? Не представил ли он себя в роли охотника, ладившего ловчую яму, в которую, однако, сам же и угодил?