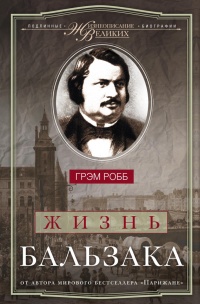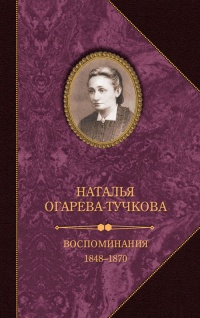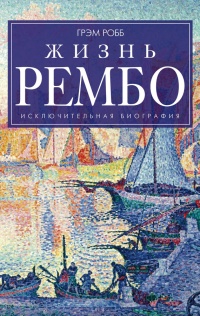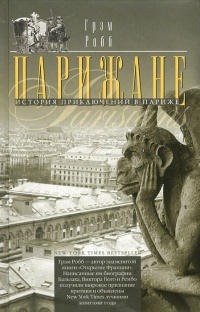Книга Жизнь Гюго - Грэм Робб
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Такое радикальное расхождение во взглядах на Гюго было неизбежным в то время, когда политические дебаты свелись к бесконечным повторам своих убеждений. С другой стороны, кто мог с уверенностью сказать, что знает настоящего Гюго? Был ли он, например, тем созерцателем, каким представлялся читателям газеты La Rappel, своего рода геологической окаменелостью, «отгороженной откосами, наросшими вокруг моей совести»{1243}? Или человеком, который пришел в ярость, потому что Рошфор не превратил антиправительственную демонстрацию в полномасштабный мятеж, когда 100 тысяч парижан протестовали против убийства журналиста кузеном Наполеона III? Гюго тяготел к спонтанным решениям; ему хотелось видеть, как ручейки отдельных событий сливаются в один символический поток. Может быть, «Мамаша Дюшен» была права, когда напоминала о его «имперском» воспитании. Его предки с обеих сторон в прошлом устраивали кровавую резню.
Следующие четыре месяца Гюго занимался делами профессионального ссыльного: устраивал рождественский обед. Он рассказал приглашенным детям о перспективах «лучезарного» ХХ века. В 1914 году те дети наверняка достигли призывного возраста… Кроме того, Гюго написал ответ «Морякам Ла-Манша», которые в коллективном письме благодарили его за «Тружеников моря» («Я один из вас, – писал Гюго, – я сражаюсь с бездной»; «я мокну, я дрожу, но улыбаюсь, а иногда, как вы, я пою»). В том же несоразмерном духе он послал письмо поддержки Национальной ассоциации британских дам за отмену закона о заразных [то есть венерических. – Г. Р.] болезнях. В апреле он произнес речь на могиле своего старого спарринг-партнера, атеиста и коммуниста Эннета де Кеслера. Когда гроб опустили в могилу, Гюго победил в их последнем споре, заметив, во-первых, что Кеслер теперь в другом мире и беседует с великими республиканцами прошлого, и, во-вторых, что он умер землевладельцем (он владел участком земли на кладбище).
По сравнению с другими его публичными высказываниями, похоронная речь казалась легким отступлением.
1870 год настолько важен для истории Франции, что естественно желать, чтобы Гюго начал собирать чемоданы, и думать, будто он догадывался, что вскоре произойдет. Но после волнений 1868 и 1869 годов были все признаки того, что империя все же выстоит.
Наполеон III страдал из-за своей непопулярности; его запугивала жена, которой все больше нравилось ездить по стране. В 1870 году он доказал, что остался таким же увертливым, как раньше. Французов попросили одобрить недавние «либеральные реформы». «Да» стало бы мнением в поддержку империи, а «нет» – мнением в пользу той империи, какой она стала бы, если бы все ее граждане поняли неоспоримое превосходство экономики.
Ответ Гюго появился в газете Le Rappel и в нескольких других. Плебисцит он называл «государственным переворотом в форме клочка бумаги». «Можно ли считать мышьяк съедобным? Вот в чем вопрос». Он предложил на обсуждение собственный вопрос: «Следует ли мне сменить Тюильри на Консьержери и отдаться на милость суда?» Подписано: «Наполеон». Ответ: «Да».
В результате был выписан ордер на арест Гюго; его сыновей в очередной раз приговорили к тюремному заключению, а Наполеон III убедился, что его реформы одобрили 7 миллионов 358 тысяч граждан. Миллион 572 тысячи высказались «против», миллион 894 тысячи воздержались. Казалось, будущее империи обеспечено. Гюго понял, что вернулся туда, откуда все началось. Он продолжал писать стихи для сборника, который хотел назвать «Новое возмездие» или «Гром на горизонте»{1244}. Некоторые стихи, написанные в 50-х годах, первоначально предназначались для тома, который он собирался назвать «Почтовый ящик»{1245}. Они были опубликованы посмертно под названием «Мрачные годы» (Les Années Funestes).
Если, как считали некоторые, Гюго искренне верил, что империя вот-вот рухнет, почему он потратил столько времени на подготовку книги, которая устареет, не успев выйти в свет? Хотя позже Гюго хвастал, что предсказал вторжение пруссаков{1246}, стихи, в которых он называет империю «танцем смерти», доказывают, что он имел в виду Божественное возмездие. Последнее стихотворение из сборника, написанное до Франко-прусской войны, Épizootie dans les Hommes de Décembre, написано не человеком, который мысленно чистит пистолеты, а веселым старым революционером, который любит начинать день с чтения некрологов: «Могильщик, поскорее закопай их, / Бросай прах на Морни / И грязь на Троплона»[51].
Помимо того, тем летом Гюго сделал важное открытие, которое подтвердило его «космический» взгляд на человеческие дела. Шарль и Алиса приехали в «Отвиль-Хаус» с маленьким Жоржем и дочкой Жанной, родившейся 29 сентября 1869 года. Гюго приказал огородить пруд и террасу и в стихах обратился к птицам, приглашая их прилетать и кормиться на подоконнике у Жоржа. В опустевшей спальне Адели Второй поставили колыбели и поселили няню.
Неожиданно Гюго напомнили, что человеческие существа делят планету с отдельной человеческой расой. Он записывал все до мелочей: «6 июля 1870: Jeanne a fait pipi sur moi. C’est la seconde fois». Эти «божественно неуклюжие» существа{1247} были не несовершенной формой взрослых, но существами в своем праве, с собственным языком и обычаями. «Их неясные разговоры открывают горизонты для меня. / Они все понимают и все объясняют друг другу. / Представьте, как они рассеивают мои мысли».
Младенцы и маленькие дети, видимо, так же растворяли Гюго, как Океан. При них приходило то же чувство округлости времени и взаимопроникновения тела и Вселенной: «Изгнанник – человек благожелательный… Задумчиво смотрит он, как трехлетние девочки бегают по пляжу, окунают босые ножки в море, задирают юбки обеими руками, показывая свои невинные животики огромному изобилию»{1248}.
Пока Гюго прислушивался к детскому лепету, как антрополог изучает язык потерянного племени, главари взрослого мира вели себя как маленькие. Леопольд Гогенцоллерн объявил себя претендентом на испанский престол. Так как главой династии Гогенцоллернов считался Вильгельм I Прусский и так как последние десять лет Пруссия мешала планам Франции в Европе, Франция выступила против. Очевидно, настало время настоять на своем. Министр иностранных дел Франции дал понять, что король Испании из династии Гогенцоллернов будет поводом к войне. Гогенцоллерн отозвал свои притязания; возможно, этим дело бы и кончилось.
Однако императрица Евгения пожелала, чтобы сомнительная империя ее мужа одержала и дипломатическую победу. Она требовала, чтобы отказ от претензий гарантировал лично Вильгельм. Бисмарк ответил сухим заявлением в форме телеграммы, которую доставили в Париж в День взятия Бастилии. Ни о каких гарантиях не может быть и речи. Франция сочла себя оскорбленной и 19 июля 1870 года объявила Пруссии войну. «Некоторым нравится приговаривать к смерти часть человечества, – писал Гюго. – Объявления просто поразительны! Одно ружье убьет двенадцать человек, одна пушка – тысячу»{1249}. Всплеск бездумного патриотизма выгнал толпы народа на улицы. В магазинах раскупили карты Германии: всем хотелось отмечать флажками продвижение победоносной французской армии. В передовой статье семейного «Парижского журнала» предлагали швырять трупы пацифистов в сточные канавы{1250}.