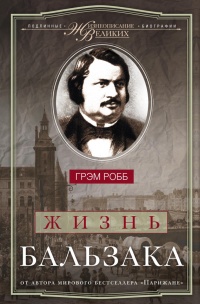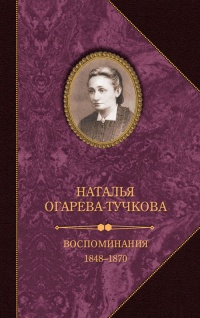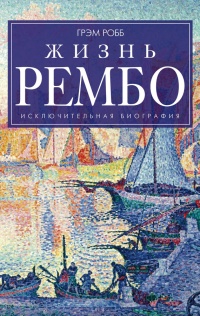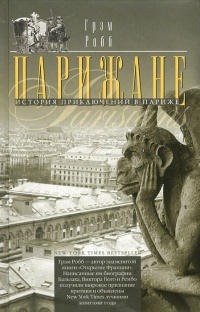Книга Жизнь Гюго - Грэм Робб
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Предпосылки у войн бывают самые разные, но причина только одна: армии. Уберите армию, и вы уберете войну…
Короли соглашаются в одном: увековечении войны. Люди думают, что их короли ссорятся. Вовсе нет! Они помогают друг другу. Солдат должен иметь некое разумное обоснование. Увековечение войны – это увековечение тирании. Логика безупречна. Она также беспощадна»{1235}.
Гюго вернулся на Гернси в ноябре. Зима была влажной и суровой. Страдая от воспаления седалищного нерва, он посылал в Le Rappel мрачные стихи, среди них произведение в духе Золя – об угольных шахтах Обена, где правительственные войска расстреляли 24 забастовщика. «Шахтер – это негр, – говорит рассказчица, шестнадцатилетняя проститутка. – Идет дождь, хотя неба нет». «Каждая шахта – дыра, в которой червь – человек». Все в большей мере философский луч надежды идет не из содержания, но из формы. Эти стихи относятся к речам Гюго так же, как молитва относится к проповеди. Бог выражает себя через таинственные совпадения слов. Имена двух общин, где были убиты шахтеры, – Рикамари, Обен (Ricamarie, Aubin) – были также гигантскими рифмами для Вавилона-Парижа, где упадочные деспоты забавлялись со шлюхами: ris qu’a Marie au bain («смех Марии в купальне»){1236}.
Солнце империи закатывалось, но оно заходило и над островным королевством Гюго. Перспектива республики поставила его перед печальным фактом: по-настоящему из изгнания не возвращаются. «Отверженные» стали памятником пахучего, анархистского Парижа времен детства Гюго. Но, как напомнил ему Бодлер в величественной элегии «Лебедь», посвященной Гюго, «форма города меняется быстрее, чем человеческое сердце». Гюго понимал, что он вернется не в Древний Рим и не в Афины, но в европейский Нью-Йорк:
В одном смысле Гюго никогда не покидал Францию. Несколько его моделей вовсю участвовали во французской политической жизни, и именно с этими другими Викторами Гюго он образует коалицию по возвращении.
Что касается правящего класса, он пришел к удручающему выводу: хотя цензура лишь способствовала распространению его трудов, истинный ущерб был причинен самоцензурой. Почти все, что написано о Гюго в ссылке, вполне адекватно представлено Флобером в «Лексиконе прописных истин»:
«ГЮГО (ВИКТОР). – Право, напрасно он занимался политикой»{1238}.
Представители младших поколений отметили разрыв ровесников с Гюго. «Баллада о Викторе Гюго» Банвиля прославилась в последние месяцы империи, а ее припев, Mais le père est lá-bas, dans l’ile, «Старик на своем острове», распевали все школьники. Гюго стал их кумиром, единственным живым романтиком, пережившим настоящие приключения. Своей жизнью он доказывал, что можно расти над собой и оставаться ниспровергателем. Начиная с 1856 года все его новые произведения можно было достать во Франции, но замечали и признаки официального неодобрения: бюсты Гюго продавали из-под прилавка{1239}, сомнительного вида субъекты вместе с порнографическими открытками торговали из-под полы ввезенным контрабандой «Наполеоном Малым». История Франции для школ увлекательно называет противников государственного переворота 1851 года «беглыми заключенными и членами тайных обществ»{1240}.
Труднее воссоздать образ Гюго среди пролетариата. Портреты Гюго часто можно было видеть на стенах в домах рабочих, где они заняли место, когда-то принадлежавшее другому спасителю в изгнании, Наполеону Бонапарту{1241}. В газетах, которые тайно продавались в предместьях, образ был более запутанным. Произведения Гюго почитали; на нем самом лежало пятно происхождения и прошлых взглядов. Прекрасный пример такого раздвоения можно найти в газете, которая, в попытках избежать цензуры, вначале выходила под названием «Жокей», затем стала «Мамашей Мишель», а шесть номеров вышли под названием «Отверженные». У слова «отверженные» появилась четкая революционная коннотация, как и у «Квазимодо», который писал в газету в феврале 1870 года, жалуясь на жилищные условия в окраинных трущобах. Но читатели газеты, которая призывала читателей выходить на улицу и убивать полицейских, совсем не обязательно верили Гюго. Выпуск, названный «Бегите!», приглашал читателей посетить кладбище бедных ссыльных на Джерси и прийти к выводу, что Виктор Гюго спас свою шкуру и бросил своих собратьев по ссылке.
Агрессивно-пуристский, анархистский взгляд на Гюго был почти таким же беспощадным, как взгляд крайних консерваторов. Сквернословящая газетка для пролетариев под названием «Мамаша Дюшен» (она же – «Гильотина») посвятила первую полосу первых трех номеров Виктору Гюго{1242}. Стиль служит предтечей Парижской коммуны и примером опасного, фарсового подхода к политике, который так поощряло «Возмездие» Гюго: «Эта личность, поэт-хамелеон, – самый большой хвастун, какой существовал в истории человечества со времен падшего ангела». «Сын солдата первой Империи, он с молоком матери впитал империалистические взгляды». При каждой новой власти хамелеон менял цвет. Он выпросил пенсию у Людовика XVIII, лизал сапоги Карлу Х, сбежал к масонам в 1830 году, служил правительству Луи-Филиппа, выклянчил пост пэра Франции. Он переспал с женой своего лучшего друга, Биара, и вышел сухим из воды. Все это время он «стряпал непристойные, антирелигиозные драмы» и «появлялся на публике с куртизанкой Жюльеттой». Почему последние восемнадцать лет он провел в ссылке? Потому что Луи Бонапарт отказался назначить его министром. Статьи оканчивались длинным стихотворением, в котором говорилось, что у Гюго голос павлина, голова гидроцефала, зловонное дыхание и злокачественная опухоль в подмышке, из которой он берет чернила.
Важность этого вываливания в грязи заключается в том, что инсинуации предназначались для пролетарской публики, которая обожала Гюго, как шотландцы – Красавца принца Чарли. В феврале 1870 года «Мамаша Дюшен» напечатала подборку писем читателей, в которых те возмущались поношением «великого человека». Один неизвестный герой по фамилии Дюру предложил встретить автора статей возле его дома номер 10 по улице Каде между 20.30 и 21.00. Больше «Мамаша Дюшен» не выходила.