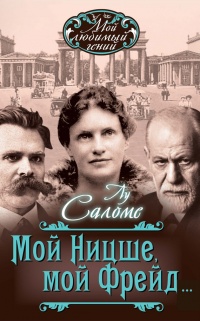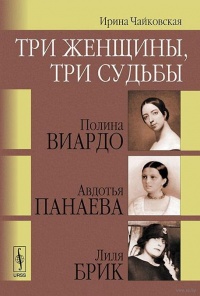Книга Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта. Лу Андреас-Саломе, Нина Петровская, Лиля Брик - Игорь Талалаевский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
выеду в понедельник 22 февраля или никогда 14 дней достаточно болезнь не опасная наконец время выбирать Нина
Брюсов — Нине. 1/14 февраля 1909 г. Москва.
…буду говорить Тебе все, все, до беспощадности все, что подумал, что сказал сам себе, читая Твою телеграмму…
Ты пишешь: «выеду 22 или никогда». Нина, дорогая! вспомни, что это я просил, умолял Тебя и настаивал, чтобы Ты приехала. Вспомни все мои письма, в которых я так радовался скорой встрече. Перечти последние письма, в которых печалился я до отчаянья, что наша встреча отложена. Зачем же мне говорить «22 или никогда»? Ты знаешь, что я хочу, очень хочу нашей встречи. Зачем же пользоваться этим моим желанием, чтобы причинить мне трудность и мучение. «Если не поедешь 22, не увидишь меня», — пишешь Ты. «Но мне трудно ехать 22», — говорю я. Что ни выбери, ехать или не ехать 22, все выходит тяжело, трудно и мучительно. Зачем мучить заведомо? Зачем намеренно быть жестокой? Или Ты веришь и знаешь, что я люблю Тебя и хочу Тебя видеть: тогда Твоя угроза безжалостна. Или Ты не веришь и не знаешь, — тогда это — сознательное испытание, какой-то расчет, но в это последнее предположение я не хочу верить! И вообще: разве я из тех людей, которых можно запугать? Разве ко мне можно приступать с требованием «- или никогда»? Нина! милая, дорогая, любимая, целую Тебя нежно, люблю Тебя очень, хочу Тебя страстно, но эти слова возьми назад. Между нами не должно быть взаимных угроз. Господи! есть же где-нибудь на свете свобода в чувстве, а не долг, не принуждение, не обязанность, не подчинение. «22 или никогда». Значит, Ты можешь «никогда»? Думала ли Ты то, что написала?
Пойдем дальше. «Болезнь не опасная, 14 дней (для лечения) довольно». Во-первых, согласись, что нам здесь, вблизи, виднее, сколько дней надо для лечения, 14 или больше. Во-вторых, я уже писал Тебе, что кроме именно «болезни» задержат меня работы, которые я принужден был прервать. В-третьих, наконец, и, может быть, это важнее другого, я считаю невозможным уехать именно в те дни, когда я ей в самом деле могу быть нужен. Уехать сейчас или вообще раньше, чем все снова наладится, уехать, оставляя ее, больную, еще совершенно беспомощной, — мне кажется жестоким. Да буду ли я нужен Тебе, если мои мысли и заботы будут не с Тобой, а в Москве? Неужели Ты хочешь получить меня таким, каким я приехал от Тебя, из Бреста, в Пиренеи? Я тогда мог думать только о Тебе, мог говорить только о Тебе, все мои мысли были в Бресте и с Тобой в пути… Я проклинал себя, я осуждал себя всеми беспощадными словами за то, что уехал от Тебя… Хочешь ли Ты, чтобы все это повторилось в обратном порядке? Хочешь ли Ты, чтобы, уступая Твоей угрозе, боясь потерять Тебя навсегда, я действительно поехал бы к Тебе, был бы телом с Тобой, а душою не с Тобой? Такая ли встреча нужна нам? Сблизит ли она нас так, как мы этого хотим? Даст ли нам ту vita nuova, ту новую жизнь, о которой я говорю, о которой я мечтаю? Нина! Нина! дорогая моя! опять целую Твои руки, ласково и нежно, сколько умею. Опять повторяю Тебе: люблю Тебя. Но эти свои слова возьми назад.
Пойдем еще дальше. Ты говоришь: «Пора, наконец, сделать выбор». Боже мой! неужели все то, что я говорил, что я писал, что пытался объяснить, всё прошло даром! Неужели мы все на том же месте, где стояли во дни весенних наших отчаяний! Ах, если бы я мог сделать выбор, un choix, нам незачем было бы обмениваться с Тобой этими письмами. Или мы были бы с Тобой вместе, или не были бы в «переписке». Нет, Нина, на эти Твои последние слова я уже ответил всеми длинными письмами, какие пишу Тебе вот уже два года. Этих слов я не смею просить Тебя «взять назад», потому что отвлеченно Ты права. Но я думал, что Ты простила мне мою неправоту, простила, потому что поняла, что иным я быть не могу. Tout comprendre c’est tout pardonner…(Bce понять — значит все простить (фр.). — И. Т.) Вся наша драма, вся трудность нашей жизни, все ее мучительство именно в том, что «сделать выбор», т. е. сказать Тебе или ей: «Меня больше нет с Тобой», — для меня невозможно. Я думал, мы не начнем больше этого разговора, что молчаливым соглашением мучительный вопрос решен. Ты мне простила, как и я простил Тебе многое, многое… хотя бы то, что с Тобою этот Робер… Против него личная не могу иметь ничего, но сказать, что мне не больно думать, что Ты с ним, что он с Тобой, что Вы — как возлюбленные, я не могу: мне это очень, очень и очень больно. Я, наклонив голову, с померкшими глазами переношу эту боль, потому что Ты можешь возразить мне (и уже возражала) словами: «А ты!» (Я не хочу сказать, что наши положения тождественны. Мне хочется верить, что Ты «выбор» сделать посмела бы. Я только говорю, что ждал от Тебя прощения подобно тому, как стараюсь сам простить Тебе то, что мне кажется оскорблением нашей любви.) И разве, когда я звал Тебя к себе в Петербург и Гельсингфорс, это значило, что я совершаю какой-то «выбор»? Я звал (и зову Тебя безнадежно и сейчас!) потому, что я истомился без Тебя, потому что Ты мне нужна бесконечно, мне, душе моей, и потому что, кажется мне, я нужен Тебе, Твоей душе, нужен по-настоящему. Я хотел, я мечтал встретиться с Тобой вне всяких условий, вне всяких выборов, только потому, что оба мы хотим быть вместе, что оба мы поняли, как прекрасно нам быть вместе, как многое мы можем вместе! — Нет, Нина, дорогая, этих последних слов не бери назад; вовеки сохрани эту жажду, чтобы я «наконец сделал выбор», но пока я не сделал его, прости меня милосердно и оставь мне свою любовь — и такому, каков я. Такова моя молитва.
Вот все то, что я хотел написать Тебе, Нина, в ответ на Твою телеграмму. Все, что я написал, — это мои искренние мысли и чувства, — от слова до слова. Не лгал нигде, — ни там, где оспаривал Тебя, ни там, где говорил о своей любви к Тебе. Суди мои слова с той же простотой и откровенностью, с какой я писал их… Постарайся подойти ко всему, что я говорю, без предубеждения, постарайся понять меня, понять чувства, какие создавали мои слова. Если Ты поймешь меня, если увидишь мою душу так ясно, как я ее вижу, Ты не повторишь своего сурового и жестокого — «или никогда».
Нина! хорошая! труден был наш путь к «новой жизни». Не будем делать его трудным вдвое.
И среди всех сомнений — помни, что я люблю Тебя, — люблю, в истинном смысле этого слишком великого слова…
Брюсов — Нине. 3/16 февраля 1909 г. Москва.
…Нина, милая! мне странно и страшно видеть в Тебе эти чувства — ожесточение и безжалостность. Такой я Тебя не приемлю, не могу принять. Если Ты могла написать мне все эти строки, хотя бы после и отреклась от них, это значит, Ты души моей так-таки и не поняла. Упреки Твои глубоко несправедливы. Требования Твои до последней степени немилосердны. Этого Твоего лика я боюсь. Этот Твой лик не даст нам ничего, кроме новых мучений.
И еще! Что значат Твои слова: «Если наша встреча откладывается на месяц, я уеду с Робером и вернусь к Тебе уже иной». Ах, если Ты можешь измениться, если для Тебя есть еще вопрос, со мной ли Тебе быть или с кем другим, — разве я стану что-либо требовать! Я наивно думал, что никакие соблазны Робера, никакие недели, проведенные с кем-то и где-то, — не изменят Твоего желания (что говорю, «желания», — необходимости для Тебя) быть со мной. Как никакие недели, проведенные с женой, не изменят ничего но мне, в моей любви к Тебе: в этом клянусь! Если любовь Твоя ко мне может умереть, пускай умирает/ Я хочу любви бессмертной! проходящей сквозь все испытания! более сильной, чем смерть! — И наперекор всем Твоим доводам, говорю, что такова моя любовь!..