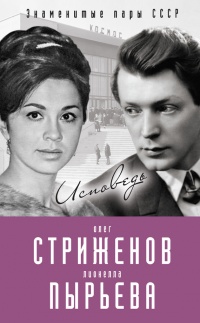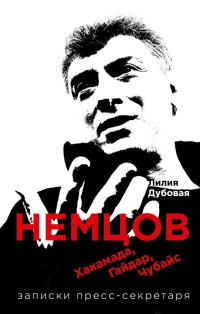Книга Моя свекровь Рахиль, отец и другие... - Татьяна Вирта
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Никто тогда, перед войной, не знал, что Слава действительно придет к Поэту, однако посмертно. Ему не суждено было увидеть ни одной строчки своих напечатанных стихов, все сборники стали выходить потом, после его ранней гибели. Никто не мог знать и того, что Павел может увлечь за собой не только в романтику и мечту, но и героически закончит свою невероятно короткую жизнь «верный воинской присяге», как сказано в похоронном извещении, и будет погребен на той же сопке «Сахарная», где попал под обстрел. Он сам вызвался идти в разведку, и там, где надо было ползти, шёл в полный рост. Потому что ползать не умел.
Это случилось 23 сентября 1942 года под Новороссийском. И на щите над высокой грудой камней надпись: «Автору песни «Бригантина» Павлу Когану».
Еще раньше он писал:
Иногда Юрка болел, и тогда в Рахили взыгрывали с новой силой материнские инстинкты, призывавшие её спасать своего ребенка. Она действовала немедленно, все бросала и принималась лечить по своему разумению. Эта отзывчивость к заболеваниям, надо отдать ей должное, была одной из сильнейших свойств натуры моей свекрови Рахили. Она вся преображалась и, вооружившись мужеством и терпением, обходила все торговые точки вокруг Белорусского вокзала, пока ей не удавалось достать импортную курицу в целлофановой обложке. Вернувшись домой со своим трофеем, Рахиль сейчас же начинала готовить из этой слегка уже посиневшей курицы бульон, который должен был, по её мнению, послужить вернейшим средством излечения при любом заболевании. Приходилось признавать, что так оно и было, – под воздействием съеденного бульона и самой вареной курятины больной вскоре поправлялся, и этот акт самопожертвования со стороны Рахили долго еще вспоминался и самим поправившимся больным, и всеми домашними… И жизнь в квартире на Ленинградском шоссе входила в нормальное русло.
Однако же ненадолго. Через два-три дня на пороге квартиры появлялась заплаканная соседка. У неё несчастье – дети разводятся. Что же будет с малолетними внуками?! А сама она страдает сильнейшей бессонницей и нервным расстройством. Рахиль приглашала соседку к себе, поила её неизменным чаем и часами вела с ней успокоительную беседу, пока соседка, снабженная длинным списком всяческих целебных трав, которые следовало закупить в аптеке и потом заваривать по указанному в записке рецепту, заметно приободрившись, не отправлялась домой. Сама Рахиль после этих визитов в полнейшем изнеможении до всякого ужина закрывалась в своей комнате и укладывалась в постель, благо о семье могла позаботиться верная домработница тётя Мотя.
Надо сказать, среди окружавших её людей и в городе, и на даче в Дорохово Рахиль, как советчица и целитель, пользовалась непререкаемым авторитетом, а её снадобья – отвары, настойки и примочки, которые она рекомендовала своим многочисленным пациентам, действовали безотказно. По этому поводу в доме всегда водились коробочки конфет или какого-нибудь дефицитного печенья, которые ей приносили в качестве заслуженного гонорара.
* * *
Война ворвалась в жизнь семьи на Ленинградском шоссе, и в мгновение ока её мирное течение было прервано.
При этом вместе с началом войны на мою свекровь Рахиль обрушилась личная трагедия. Моисей Александрович, со своей обезоруживающей улыбкой и ясным взглядом голубых глаз, бросил семью и соединился с его новой женой Беллой Григорьевной, – как говорится, нашел подходящее время и место. Борис Наумович находился в ссылке. Лена добровольцем ушла на фронт, Боба в это время также был призван в действующую армию и пока еще не был отозван на военный завод, где потом работал до конца войны.
Рахиль с Юрой каждый раз при очередной бомбежке спасались в метро на станции «Белорусская». Вскоре было принято решение всех детей вывезти за пределы столицы.
И Юру вместе со школой отправляют в один из подмосковных совхозов, так сказать, на трудовой фронт. В это время он учился в шестом классе. В совхозе подростки работали на подсобных работах – прополка, связывание сена в снопы, сбор травы тимофеевка на корм скоту.
Очень скоро начались серьезные проблемы. Кормежка, которую совхоз мог предоставить юным труженикам тыла, была для них категорически недостаточной. Тринадцати-четырнадцатилетние подростки испытывали сильнейший голод. Юра писал домой, своим родным, отчаянные письма.
«…У меня все ничего, но только тут неважно кормят… Если можно, пришлите хотя бы немного сухарей…»
«…Я здоров, но с едой тут неважно. Не могли бы вы прислать мне немного денег, потому что тут можно кое-что из продуктов купить?»
Эти слезные мольбы странным образом остаются без ответа, хотя сохранившиеся листки, вырванные из школьной тетрадки, неопровержимым образом свидетельствуют о том, что до адресатов они доходили.
…Мы с моим мужем прожили вместе больше пятидесяти лет, но у меня при чтении этих писем ком подкатывается к горлу, и я совсем по-детски начинаю всхлипывать и переживать давно прошедшее, – как это так получилось, что никто из этой большой семьи не кинулся ему на выручку? А я была от него так далеко, и вообще ничего не знала о его существовании…
«Голод» – моей бабушке, Татьяне Никаноровне, это ужасное слово было знакомо с 1922 года, когда жесточайший голод охватил все Поволжье. Её муж, Иван Иванович Лебедев, из Костромы, где они жили, на пароходе решил добраться до Нижнего Новгорода в надежде раздобыть там что-нибудь из продуктов. По дороге он заразился сыпным тифом и умер, и моя бабушка больше своего Ивана так никогда и не видела, не знала, где он похоронен, и есть ли у него вообще могила…
Моя дорогая, любимая бабушка! Какие героические усилия пришлось ей приложить, чтобы в те годы жуткой бескормицы выжить, сберечь своих детей, отваривая им картошку, выкопанную на поле после сбора урожая, а самой при этом питаться очистками…
Оставшись молодой вдовой, моя бабушка так больше замуж и не вышла, хотя, судя по дошедшим до нас фотографиям, в то время была еще очень привлекательной, и к ней сватались многие. Всю свою оставшуюся жизнь она посвятила нашей семье – сначала растила меня, свою Танюшку, как она меня называла, потом моего брата Андрюшу, и у неё еще достало сил вынянчить и довести до школьного возраста нашего сына Максима, и отдать ему последнее тепло своего сердца.
И вот голод снова стучит в наши двери. Из осажденного Ленинграда до нас доходят сведения о том, что близкие друзья моих родителей, Лев Левин и семья Иосифа Гринберга, находятся в последней стадии истощения и погибают от дистрофии. Мой отец по заданию Совинформбюро вылетел в осаждённый Ленинград и сумел каким-то образом организовать эвакуацию нескольких писательских семейств. Не знаю, на чем и как их вывозили из замерзающего Ленинграда в феврале 1942 года, однако в марте они уже были в Ташкенте, и первое время семья Гринбергов жила в нашей квартире вместе с нами. Как я понимаю, это было серьёзное испытание для мамы и бабушки. Жена Гринберга, Лариса, и её мать Ольга Онфилохиевна не так пострадали от голода, как сам Иосиф Гринберг, в литературных кругах известный, как добросовестный и справедливый критик, к оценкам которого с уважением относилась общественность. Катастрофически похудев, этот ранее полный, добродушный человек был совсем не похож на прежнего неутомимого балагура, – он постоянно сыпал остротами, и сам же первый начинал над ними смеяться своим характерным дробным смехом, от чего колыхалось все его дородное тело. Теперь ему было не до шуток, – он долго ещё не мог избавиться от навязчивой потребности делать запасы еды, потихоньку рассовывая куски по карманам, а по ночам прокрадываясь на кухню в поисках чего-нибудь съестного. Мы отводили глаза, боясь застать его на месте преступления и тем самым еще больше травмировать его психику. Моя бабушка нарочно стала «забывать» что-нибудь из еды на кухонном столе, чтобы помочь ему в его поисках…