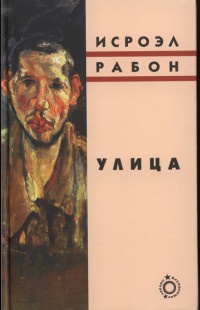Книга Правдивая история страны хламов. Сказка антиутопия - Виктор Голков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однако за внешней мимолетностью и размытостью этих пейзажей таилась какая-то необъяснимая глубина и холодный покой.
Около старых, очевидно антикварных, часов помещалась еще одна картина, яркие и сочные краски которой заметно контрастировали с остальными полотнами. Почти всю площадь картины занимал обыкновенный кочан капусты, по виду только что срезанный с грядки. Поражала необычайная естественность и жизненность ярко-зеленых листьев. Казалось странным, что эта вещь, написанная с такой удивительной силой, могла принадлежать кисти дилетанта: кочан словно стремился скатиться с полотна и с глухим хрустом удариться о пол. Картина называлась “Ипостаси моего внутреннего Я” и символизировала некий гипотетический “кочан” внутреннего мира Шампанского. Один за другим отслаивались хрустящие сочные листья, оболочки одного и того же, а в середине клубилась плодотворящая пустота, нечто вроде животворной сути всего на свете. Вообще говоря, такая “слоистость” была свойственна не только одному Шампанскому: сама ассоциация внутреннего мира с кочаном капусты (не растущей к тому же в Хламии) была им услышана за столиком кабачка “Сердцебиение” от гения страдания Гицаля Волонтая. Разница между Шампанским и другими хламами заключалась именно в природе той пустоты, которая пряталась за капустными листьями. Если для хламов это был просто физический “континуум”, а по сути – ничто, то для Шампанского пустота являлась сверкающим, наполненным дыханием вечности началом, – страной, бледные копии которой туманно поблескивали на стенах его приемной. Однако приблизиться к ней, грубо обрывая листья, – безнадежное и даже небезопасное дело: можно только спокойно и осторожно разворачивать их. И еще одно. Здесь, на клочке земли, обнесенном Высоким квадратным забором, существовали только так называемые “лиственные оболочки” Шампанского, а таинственная сердцевина “кочана” находилась в совершенно иной, необъятной и безграничной стране.
* * *
Глухие удары над головой вывели Шампанского из состояния глубокой медитации: кто-то, тяжело грохоча, лез по жестяной кровле его особняка.
Шампанский нехотя вышел на улицу и, задрав голову, без особого удивления увидел на самом гребне молодцеватого, заросшего густой шевелюрой хлама, привязывающего к печной трубе национальный хламский флаг. Огромная толпа, как и Шампанский, задрав головы, с одобрением следила за работой смельчака. Радуясь как дети, хламы-зрители лупили себя по бедрам, приплясывали, а кое-кто даже пытался затянуть нелегкую мелодию хламского гимна. “Виктория! Виктория!” – раздавались раз за разом нестройные выкрики. В чем именно заключалась эта Виктория (Победа), до сознания Шампанского не доходило, ибо он ни словом, ни жестом не мешал хламу-энтузиасту привязывать флаг к трубе своего особняка.
И тут едва не случилось непоправимое. Сделав свою работу, смельчак, очевидно, почувствовал себя героем, расправил плечи и ступил так уверенно, как если бы он находился не на скользкой и гладкой крыше, а на ровной, недавно отремонтированной мостовой улицы Энтузиастов. Этот его маневр сопровождался бурной овацией. В ту же секунду, поскользнувшись и нелепо взбрыкнув ногами, он с грохотом покатился по жестяному склону. Толпа, только что скандировавшая “Виктория! Виктория!”, подалась назад и разом присела. Один только Шампанский сохранил полное самообладание. С чисто иностранным спокойствием он сделал два необходимых шага навстречу бедняге и на лету подхватил его. Толпа облегченно загудела, а спасенный, которого Шампанский осторожно поставил на ноги, в течение минуты не мог ничего вымолвить и только шумно сопел и таращил глаза. Затем, окончательно убедившись, что уцелел, он быстрым движением высвободился из рук своего спасителя и, как бы невзначай наступив ему на ногу, обиженно прошипел: “Ну вот еще! Не твоего ума дело!” Ничего не ответив, Шампанский круто повернулся и исчез за дверями.
* * *
К городу подступали невысокие горы, зеленая долина незаметно переходила в пустыню. Сплошь залитая яростным солнцем, эта мертвая пустыня была, однако, полна какой-то невыразимой радости. Кремнистые, странные по форме вершины нависали над головой и казались живыми. И сам пейзаж при всей своей фантастичности и ирреальности был насыщен какой-то необычайной энергией. Казалось, тысячелетия навечно обосновались в этих горах и кружатся вокруг одинокого глаза трагически-прекрасного, окольцованного белыми ресницами соли горного озера, где не могла бы выжить ни одна бактерия…
На старых настенных часах хрипло пробило шесть. “Ба!”, – промолвил Шампанский и, став перед зеркалом в позолоченной раме, примерил свою любимую фетровую шляпу. “Болваны!”, – пробурчал он вслед за тем, неведомо к кому адресуясь. Криво усмехнувшись своему отражению, он с удовлетворением отметил, что фрак на его сухопарой, долговязой фигуре сидит не хуже, чем обычно. “С днем рождения, уважаемый иностранец Шампанский!”, – с изрядной долей сарказма, но не без торжественности поздравил он самого себя.
Вскоре, прихватив на всякий случай заграничный паспорт и свернутую в трубочку голубую тетрадь, куда он ежедневно заносил результаты наблюдений над самим собой, Шампанский вышел на улицу. “Ни отсутствие “Горькой полыни”, ни так называемое Возрождение не помешают мне, иностранцу Шампанскому, отпраздновать собственный день рождения” – примерно так рассуждал он, направляясь вдоль бульвара Обещаний в кабачок “Сердцебиение”.
Спустя без малого три часа иностранец, сильно не в духе и без голубой тетради, вернулся в свой особняк. Причем под его правым глазом красовался огромнейший синяк, формой и окраской напоминавший георгину, росшую у него под окном. Став напротив зеркала, Шампанский долго и внимательно изучал контуры синяка, подобно чернокнижнику, пытающемуся разгадать тайный смысл старинной криптограммы. “Круг замкнулся”, – наконец мрачно выдохнул он, и было ясно, что на сей раз его мрачность не показная и сказано это отнюдь не ради красного словца.
С трудом оторвавшись от зеркала, Шампанский направился было к своему письменному столу с очевидным намерением продолжить то, чем он ежедневно занимался: заполнять страницы своего дневника. Но споткнулся на полдороге и застыл неподвижно – причем, на лице его появилось какое-то новое выражение.
* * *
Ослепительный зигзаг молнии распорол плотное ватное одеяло хламской ночи. Громыхнуло. Шквал крупных дождинок обрушился на жестяную крышу особняка, и старые часы в приемной, звякнув в последний раз бронзовым маятником, замерли в предчувствии ужасных перемен. В чернильном мраке на картине возле часов шевелились, как живые, листья капустного кочана.
Казалось, страшная разрушительная сила распирает кочан изнутри. Минута, и по его поверхности пробежала трещина, а из трещины вырвалось холодное серое свечение, заструившееся по ее краям суетливыми, однако, на удивление упорядоченными токами. В самой же трещине, как на экране, проносились то каменистые верхушки гор, то сверкающая поверхность мертвого озера, то клочок бездонно-синего неба.
Тень старика с растрепанной седой бородой и в опущенной на глаза остроконечной шапке вдруг, как стальная лента, вырвалась из тела застывшего в коме иностранца. Вырвалась, словно из ставшей тесной поношенной одежды, и, как шило сквозь масло пройдя через потолок и крышу, вонзилась в исполосованное фиолетовыми артериями молний небо. Острие шапки очутилось где-то в самой сердцевине клубящихся черных облаков, а сухие длинные руки старика распростерлись над Хламией, подобно противоположным крылам гигантского креста, и уперлись в западную и восточную стены Высокого квадратного забора. Тело исполина задрожало и стало дробно похрустывать от титанических усилий – и как бумажные затряслись толстые, покрытые многовековой плесенью, старинные хламские стены…