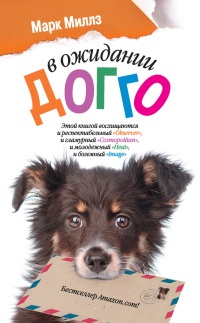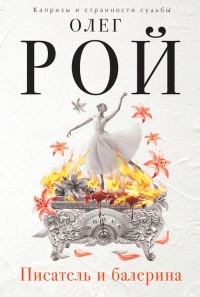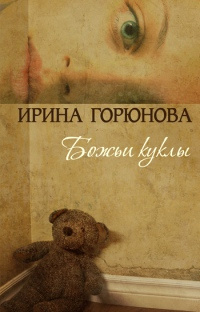Книга Пепел и песок - Алексей Беляков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Звукооператор, не мелочись, добавь счастливых обертонов в мой голос, звучащий в трубке:
— Слушай, ты не одолжишь свой велосипед?
— Какой велосипед, Марк? Занимайся сценарием.
— Очень нужен, без него не напишу.
— М-да? Новая причуда нашего гения? Я, конечно, давно привык, но мне кажется… Постой, а зачем тебе мой велосипед? У тебя же свой, винтажный, ну?
— Нет, мне нужен второй.
— Для кого?
— Не в силах тебе сейчас объяснить. Просто нужен. Нужен.
— Можешь взять. Там у меня на Поварской домработница, она выдаст. Но умоляю, Марк, пиши! Вазген каждый день мне звонит. И помни о цели!
— Я нашел ее! Нашел!
Важно вовремя прервать диалог, Бенки. Кому интересно, что на это ответит Йорген, которого сквозь кристальную оптику изучают ШШ, наводя точки снайперов на пухлый нос и камышовые брови? И что на прощание скажет Марк, чье лицо теперь закрывают волосы Катуар? Все это пустое, ненужное, тщетное, праздное. Ни толку, ни проку, не в лад, невпопад. Что никак не продвинет сюжет, а создаст суету в эпизоде. Стоп. Трубка со стоном падает на пол.
НАТ. СЕРЫЙ ПЛЯЖ У АЗОВСКОГО МОРЯ. ДЕНЬ.
Карамзин и я лежим на песке в блеклых плавках, разглядываем мертвый рыболовецкий баркас, увязший здесь навсегда. Мы знаем баркас до последнего крика чайки, которая гадит на капитанскую рубку. Этот баркас появится на моих скрижалях лишь один раз, чтобы больше не вызывать у автора приступа таганрогской изжоги.
— Я хотел бы уплыть на нем, — произношу я, четырнадцатилетний, с тестостеронной тоской. — Далеко.
Карамзин кидает в меня сухую ракушку, смеется:
— Куда ты уплывешь без меня? Не забывай — ты делаешь только то, что я приказал. Не можешь другого. Так я сказал.
— Ты все время ерунду приказываешь.
Карамзин грызет соленый ноготь, бормочет:
— Настанет момент для настоящего дела.
И в рифму к его зловещим словам со стороны буксира возникает на пляже девушка в малиновом купальнике. В ее правой руке полотенце, как мокрый поверженный флаг. Мы притворяемся моллюсками, только глаза выдают движение плоти.
Девушка проходит мимо, не замечая моллюсков. Напевает старинный романс «Бухгалтер, милый мой бухгалтер». Карамзин облизывает кровоточащие губы и кричит:
— А с нами тут поваляться? Мы ребята лихие, мы посланцы стихии!
Девушка, замерев, различает нас на песке и смеется:
— Мудаки!
Уходит из кадра.
— А я знаю, как ее зовут, — произносит вслед Карамзин.
— Откуда?
— Просто знаю. Ее имя — Румина. Нравится?
— Очень.
— Сам доволен: придумал это имя секунду назад. А хочешь узнать, когда она умрет?
— Когда?
— Когда ты ее убьешь.
— Ты сумасшедший все-таки.
— И это приказ мой — убей!
Я ищу пальцами любимую прядь на затылке, но тщетно: вчера бабушка очень коротко меня подстригла чугунными ножницами.
— Убей, я сказал!
— Как?
— Хорошо, что спросил. Значит, верно мне служишь. Ты убьешь ее страшно, так что мир содрогнется. Эту казнь еще надо придумать. Купаться?
Катуар, не гони! Я едва поспеваю!
Мы едем на велосипедах мимо краснокирпичного дома с горгулиями в овальных нишах. Ночью их угрожающе подсвечивают — так дети пугают фонариком, направляя лучик от подбородка вверх. Вспоминают о грядущей преисподней.
— Марк, куда ты меня везешь?
— В монастырь.
— Интересный поворот сюжета. Что это за бульвар? Сансет?
— Откуда ты знаешь?
— Что?
— Да, я именно так его называю. Но никому не говорил!
— Бенки мне все рассказал.
— Ты и его подкупила?
ТИТР: СРЕТЕНСКИЙ БУЛЬВАР, ВРЕМЯ 23.46. СЕЙЧАС ЧТО-ТО БУДЕТ.
Хрусть! Мы с Бенки падаем набок, переднее колесо продолжает безвольно крутиться.
— Марк, что с тобой?
Я высвобождаюсь от сбруи безвольного Бенки, быстро отряхиваю старые джинсы.
— Нас подстрелили индейцы… Бенки… мой верный Бенки…
Катуар спрыгивает с седла, поднимает выдохшегося Бенки, гладит его по цепи.
— Цепь слетела. Бедный старик! Марк, ты вообще хоть раз цепь смазывал?
— Нет. А чем ее надо смазывать? Кремом для рук?
— Маслом.
— Каким маслом?
— Я подарю тебе. Теперь нужны инструменты. Пассатижи хотя бы.
— Что?
— Пассатижи, — Катуар смыкает большой и указательный палец. — Инструмент такой.
— И где их взять ночью на бульваре?
— Нам далеко еще?
— Нет, близко совсем. Пойдем так.
Мы удаляемся, два пеших всадника, камера — вверх, над домами и мой голос за кадром.
Когда я приехал в Москву, город был темный, только глаза сверкали, только шампура блестели.
Со мной еще не было Бенки, не было Ами, мне не с кем было говорить, некому продать свой талантик. Вся компания — Лягарп в чемодане под кроватью и еще Бух, долговязый зануда с потными майками.
— Кто такой Бух? — Катуар перебивает меня.
— Историк-баскетболист. Очень важный персонаж в моем сложном сюжете, но пусть появится позже.
Я тогда забирался на крыши домов. Все чердаки были неприветливо открыты. А если и нет, ничего не стоило оторвать замок вместе с ветхими ушками, которые облегченно расставались с гвоздями-склеротиками.
На чердаках нельзя было задерживаться долго: я начинал засыпать. Я точно знал: если присяду отдохнуть на толстую трубу, обернутую уютной дерюгой, то закрою глаза и уже никогда не выберусь из летаргической сырости. И только гексоген сможет пробудить меня. И я быстрее выбирался из проклятых чердаков на крыши, разламывая рамы слуховых окон, разбивая древние стекла, царапая пыльными ресницами глаза.
Я пытался разглядеть этот город. Я пил на крышах глазные капли пивными бутылками, закусывая измученным сыром. А высоты я не боялся с тех пор, как Карамзин заставил меня полететь. И тогда город начинал медленно поворачивать свой заржавевший калейдоскоп. Узоры складывались грязные, средневековые. Но в них проступала чумная гармония, горячечное величие. Бутылка выскальзывала из рук, скатывалась по железу к пропасти и застывала на краю — лишь благодаря кучке мягкого мусора, который венчали останки воздушных шариков, что лопнули тут прошлым летом. Бутылка поворачивалась горлышком ко мне: «Спаси, командир!» — «Пошла ты!»