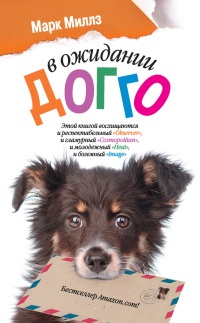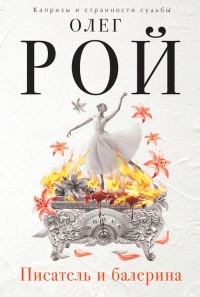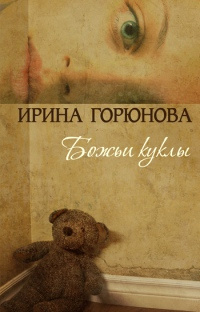Книга Пепел и песок - Алексей Беляков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В комнату входит Катуар, звеня небесными ключами.
— Извини, я их взяла у Розы, ничего?
ЗТМ.
Не станем, верный Бенки, мешать Катуар и Марку. Мы не позволим чужим разглядеть их детали, их капли, их стебли. Переведем объективы на дачу Йоргена.
Йорген ступает, горделиво прижимая итальянскими каблуками плитки новой дорожки. Неподалеку, в сирени и сумерках, — большой дачный дом. Окна распахнуты, в гостиной играет Шопен. За Йоргеном следуют оба ШШ, наслаждаются ароматами Барвихи.
— Как вам дорожка? — Йорген оборачивается, достает из кармана пиджака-френча пачку табака.
— Прекрасная. А что сказал Марк?
— Дописывает. Пойдем на веранду? Или в беседку?
— Лучше в беседку.
— А вот смотрите — вишня. Ее отец сажал. Хотел целый вишневый сад. Но не успел.
Гуси осматривают вишню от верхушки кроны до кучерявых корней.
— Хорошая вишня, — кивают ШШ. — А где вы нашли этого Марка?
— Марка? Честно? Не помню.
— Совсем? Странно. Это же ваш кормилец.
— Он, кажется, говорил, что вырос в Высотке на Котельнической.
ШШ переглядываются, по-гусиному улыбаются друг другу.
— Это он наврал. Он вообще много врет о себе. Непонятно — зачем.
Строитель-азиат в шапке с эмблемой ЦСКА бредет мимо и шепчет хокку:
Майский ветер колышет ветви сакуры старой,
Осыпает плечи гостей лепестками.
Как упоительны в Барвихе вечера!
Йорген следует дальше, к небольшому пруду с деревянным мостиком, ШШ — за ним. Йорген показывает трубкой на пруд, рассказывает древние истории, но мы уже его не слышим. Пусть вступит музыка, тот же Шопен, Шуман, Шнитке — ни шута в ней не шарю.
Я расскажу о Йоргене вкратце, не утомляя деталями, — так, пунктирно, вишневыми косточками. Хотя бы в знак благодарности за то, что он научил меня этому сложному термину кинодраматургии — «гур-гур».
Его отец был великий советский режиссер, а мама, что жива и ныне, — великая советская актриса. Бездонная квартира на Поварской, английская спецшкола № 20, две домработницы, папины эпохальные запои, мамины грузные брильянты. Но Йорген сопротивлялся, шел против ветра с Мосфильмовской улицы, против кинопроб и папиных друзей, что говорили: «Давай к нам в Щуку, во ВГИК, куда хочешь, примем сразу!» И вдруг поступил на биофак. Рыб он любил больше, чем людей. Писал кандидатскую о чудо-юдо Рыбе-кит, но однажды случайно всплыл на съемочной площадке друга-режиссера, попавшего под чары кокаина, пришлось помочь: немногословные спонсоры из Тольятти обещали закатать в целлулоид всех, вплоть до старушки-гримерши. Йорген задержался на неделю, потом на месяц, потом навечно. Но до сих пор он счастлив не тогда, когда треть бюджета сериала потайными банковскими коридорами проводит на свой счет, а когда один, с аквалангом, уходит на корм добрым рыбам.
Катуар упирается носом в мою шею. Она лежит на мне почти без дыхания, обхватив руками и ногами, как обломок реи корабля-призрака.
— Где ты была, Катуар?
— Там-сям.
— Где? Где? С очередным модным дизайнером?
— Нет, не волнуйся. Почему у тебя совсем нет дома книг?
— Они мне уже не нужны. Только сбивают с толку.
— Ты начал писать вторую серию?
— Бесишь, бесишь! Какая серия, когда не было тебя?
— Не начал? А я принесла крем для рук и еще для лица, можно их поставить в ванной?
— Можно. Можно! К тому же я выбросил все старые щетки, чтобы не приставали с глупостями к твоей зеленой принцессе.
— Как хорошо! А я постеснялась тебе это предложить. Вдруг каждая для тебя что-то значит.
— Нет, ничего. Никакой подоплеки. Это даже не реквизит. Я забываю выбрасывать, а Роза думает, что так положено у сценаристов.
— Мои кремы не будут ее смущать?
— Роза будет счастлива, расцветет. Скажи, Катуар, это знак?
— Какой знак?
— Что ты остаешься?
— Это все мур-мур. Или как там?
— Гур-гур…
Йорген и ШШ уже в беседке. Филипинка в кружевном переднике ставит на стол самовар, дым уносится сквозь решетку беседки, через неподкупный забор, к олигарху, на соседний участок с пальмами и черепахами.
— Так чем же так хорош этот ваш Федор Кузьмич? — Йорген зевает. — Что такого он натворил, что всем покоя не дает?
ШШ улыбаются, принимая из рук филипинки фарфоровые чашки с чаем лунного цвета и на два голоса затягивают печальную повесть:
— Федор Кузьмич возник ниоткуда. В 1836 году в Пермской губернии арестовали старика, у которого не было с собой никаких документов.
— Бомж? — улыбается Йорген.
— Да, фактически.
— Но у него же была лошадь.
— Откуда вы знаете?
— Марк рассказывал. Но вы продолжайте: я кроме лошади больше ничего не помню. Люди мне не так интересны.
— Поселили его в селе Краснореченском. Он был крепкий — по сути, и не старик еще. Всех сбивала с толку его седая борода. Работал на золотых приисках, жил у зажиточного крестьянина. О себе не рассказывал ничего, от расспросов уходил. Но вел жизнь такую тихую и… как это сказать?
— Благочестивую?
— Да, спасибо! Именно благочестивую. Стали к нему приходить люди, советоваться. Этот Федор Кузьмич не то чтобы очень был рад посетителям, он все больше молился, но помочь всегда был готов. К тому же обладал медицинскими знаниями, то есть лечил.
— Хорошо, а с чего все решили, что это Александр Первый? Он протягивал руку и говорил: «Очень приятно, царь»?
— Нет, — ШШ добродушно смеются, дуют на чай. — Было много улик. Доказательств. Старец этот знал французский язык в совершенстве: когда приезжал один образованный архиерей, они говорили именно по-французски. Откуда обычному мужику знать иностранный язык? Дальше — больше. Однажды к нему пришел больной ссыльный, который некогда служил в Зимнем дворце. Он увидел старца и грохнулся на колени: «Ваше Величество!». Старец очень испугался, сказал что-то типа: «Никому не говори!» Но были свидетели и все слышали. Еще подозреваемый изобразил на листе бумаги вензель «А» с короной сверху, и не просто изобразил, а поместил лист в киот, рядом с иконой…
У Йоргена звонит телефон. Он смотрит на номер, с улыбкой кивает ему и поясняет ШШ:
— Простите, должен ответить. Это опять Марк. — нажимает упругую кнопку. — Да, Марк! Неужели уже дописал? Поздравляю!
ШШ хищно переглядываются, щурясь от закатного солнца.