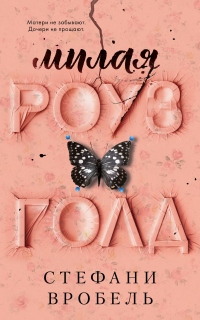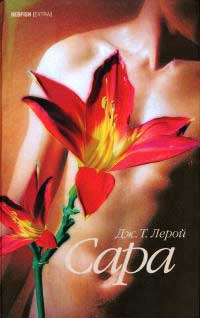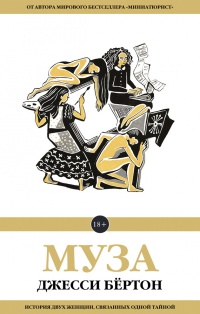Книга Реквиемы - Людмила Петрушевская
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В ночь, когда она умерла и ее увезли, муж свалился и заснул, и вдруг услышал, что она тут, прилегла головой к нему на подушку и сказала: «Я люблю тебя», и он спал дальше счастливым сном и был спокоен и горд на похоронах, хотя сильно исхудал, и был честен и тверд, и на поминках, уже дома, при полном собрании людей, сказал всем, что она ему сказала «я люблю тебя». И все замерли, потому что знали, что это чистая правда — а картинки уже не было. Картинка исчезла из его жизни, все то испарилось, стало как бы неинтересным в тот момент, и он неожиданно, тут же за столом, стал показывать всем маленькие, бледные семейные фотографии жены и детей — все эти походы, в которых он не участвовал, все их развлечения, бедные, но счастливые, по паркам и планетариям, которые она устраивала детям, все ее попытки построить жизнь на том малом, что еще ей оставалось, на том островке, где она прикрывала собой детей и где надо всем возвышалась в пространстве, все заслоняя, проклятая картинка из журнала, — но ведь оно ушло, все кончилось хорошо, и фразу «я люблю тебя» она все-таки успела ему сказать — без слов, уже мертвая, но успела.
Нас познакомили на предмет шитья брюк, сказали, что есть великолепная брючница Вера. Времена были далекие, и брюки только-только вошли в моду, и уже одни брюки я сшила у залихватской брючницы, первой предпринимательницы в Москве, ее звали Н. Она сделала выкройки на все размеры, наняла швею, сняла квартиру, у заказчиц спрашивала только размер, сорок шесть или сорок четыре, и я была у нее два раза. Дым стоял коромыслом, скромная швея строчила в другой комнате, а Н. (булавки в зубах и говорит сквозь зубы) придумала гениально: скроив и сметав на живую нитку такой-то размер, она надевала этот полуфабрикат навыворот на живую клиентку и где было широко — тут же прихватывала булавками, раз-два, и завтра приходи за брюками. Но что-то с этими брюками вышло плохо, их надо было в результате прикрывать свитером, и в следующий раз, через два года и перед отпуском, я и набрела через знакомых на Верочку.
Верочка приняла меня в своей комнате, где-то на проспекте кого-то большой генеральский дом, роскошные окна и высокие потолки, но комната у Верочки была одна, а за стеной, видно, жили соседи. Комната у брючницы Верочки была на диво хороша, как комната молодой художницы, много книг, зеркал, портьер, все темное и сверкающее, ковры и подушки. Сама Верочка меня тоже поразила: маленькая, изящная, личико как светлое яичко в гнезде темных стриженых волос, огромные зеркальные, очень спокойные глазки. Она-то все делала как заправская мастерица, обмерила-записала, один раз я пришла на примерку, на следующий я уже получила роскошные белые брючки, в которых затем и щеголяла много лет: плохо только, что тряпка была дешевая да и белая, стирала я их часто, потом штопала, а потом и выкинула, но спустя много лет.
Я носила эти брюки и как светлую мечту лелеяла планы еще раз посетить Верочку, которая, кстати, оказалась не брючницей, а студенткой и редактором в издательстве. Брюки были для поддержания жизни, так как (поняла я) Верочка ушла от родителей, богатых людей, получила от них свою богатую комнатку и дальше должна была жить одна.
Жила она и зарабатывала честно и блестяще, но больше я никогда так ее и не увидела, дела мои шли, в свою очередь, далеко не блестяще, было не до брюк.
Однако спустя сколько-то лет снова наступила весна и с ней страшная проблема, что нечего носить. Я все лелеяла в душе воспоминания о чудесной Верочке, о новом Робинзоне, о благоустроенном острове среди житейских бурь — и о белых брючках, которые служили мне единственной формой одежды летом, надел — и человек, надел — и не стыдно и так далее, а как это важно для молодой дамы, не стыдиться своей внешности, не сжиматься, не прятаться по углам.
Хорошо Верочке, думала я, она как кинозвезда со своими зеркальными шоколадными глазами, одета просто, английская принцесса, шьет и вяжет и сама для себя все устроила, как ей было нужно.
Короче говоря, я ей позвонила.
— А вы не знаете? — сухо сказала какая-то женщина. — Верочки здесь нет. Давно уже нет. Вы что, знакомая?
Я стала говорить, что очень далекая знакомая, Верочка мне что-то шила.
— Шила! — горестно воскликнула женщина. — Шила! Верочка умерла, вы что, не знали?
Пауза.
— Верочка умерла три года назад от рака груди. Боже мой, маленькая Верочка!
— Верочка очень хотела родить, но ей запретили из-за рака груди, но она не сделала аборт, а родила. Она умерла, когда ребенку было семь месяцев. Она не пошла под облучение и не принимала никаких лекарств, чтобы ему не повредить во время беременности. Верочка! Это такое было дело.
Женщина замолчала. Я тоже молчала.
— Верочка ведь родила одна, — сказала она, — без мужа. Она очень любила одного человека, но он был женат.
— А что же ребенок теперь?
— Мы, евреи, — сказала соседка, — мы детей своих не бросаем, да. Отец его навещает. Покупает что ему надо, да там и своих денег некуда девать. Там за ним глядят.
Видимо, Верочкины родители взяли ребенка к себе.
— Родители взяли, они его взяли, — подтвердила соседка, — хотя отношения были плохие. Верочка от них ничего не брала.
Это я помню.
Соседка медленно со мной попрощалась, медленно и значительно, а Верочка глядит теперь с небес на своего ребеночка и беспокоится о нем, они все там о нас беспокоятся, все, кто нас любил. Еврейка Верочка — неизвестно в каком раю.
Она уже умерла, и он уже умер, кончился их безобразный роман, и, что интересно, он кончился задолго до их смерти. Задолго, лет за десять, они уже расстались, он жил где-то, а она приехала и поселилась в Доме творческих работников как напоказ, одна и с собакой. Поскольку о ней здесь жила старая память, о ее эскападах и скандалах, об их попойках на весь мир, о том, что она жена крупного деятеля искусств — но была. Однако вспоминали, что она еще и дочь крупного деятеля прежних времен: и, не в силах ничего поделать, выделили ей апартамент, и она въехала туда с собакой и жила тихо, громко разговаривая лишь с собакой. «Ты сошла с ума», — говорила она ей на балконе (соседние балконы слышали ее необычайно громкий голос, есть такие деятели с прирожденно громкими голосами, как бы вожди, полководцы и ораторы, но, как правило, просто скандалисты).
Соседние балконы раньше слышали оттуда сочные поцелуи приветствий, стук каблуков, громкие (тоже) голоса гостей, подвижение стульев и звон стаканов, особенно раздражали всех сочные, ясные, далеко разносящиеся, по-актерски природно поставленные голоса, которыми они страшно скандалили. Говорят, утюги летали по комнате, но все осталось цело, руки и головы. В один прекрасный момент разнеслась весть, что они разошлись, это он бросил все к черту и ушел к какой-то бабе. И вот вам явление дамы с собакой, вернее, с собаками, ибо она неоднократно появлялась, неся какую-то низменную, грязную, явно не в своей тарелке находящуюся постороннюю и сконфуженную собаку, перевешенную у этой дамы через плечо в виде лисьего меха, трепаного и пожранного молью как бы. Дама выговаривала своему пуделю, что он не имел права гнать эту несчастную, эту падаль, если ее хотят подкормить. Все имеют право жить, кричала (тихо выговаривала, как ей казалось) эта Брижит Бардо, нельзя никого гнать! Не гони, и не гоним будешь!