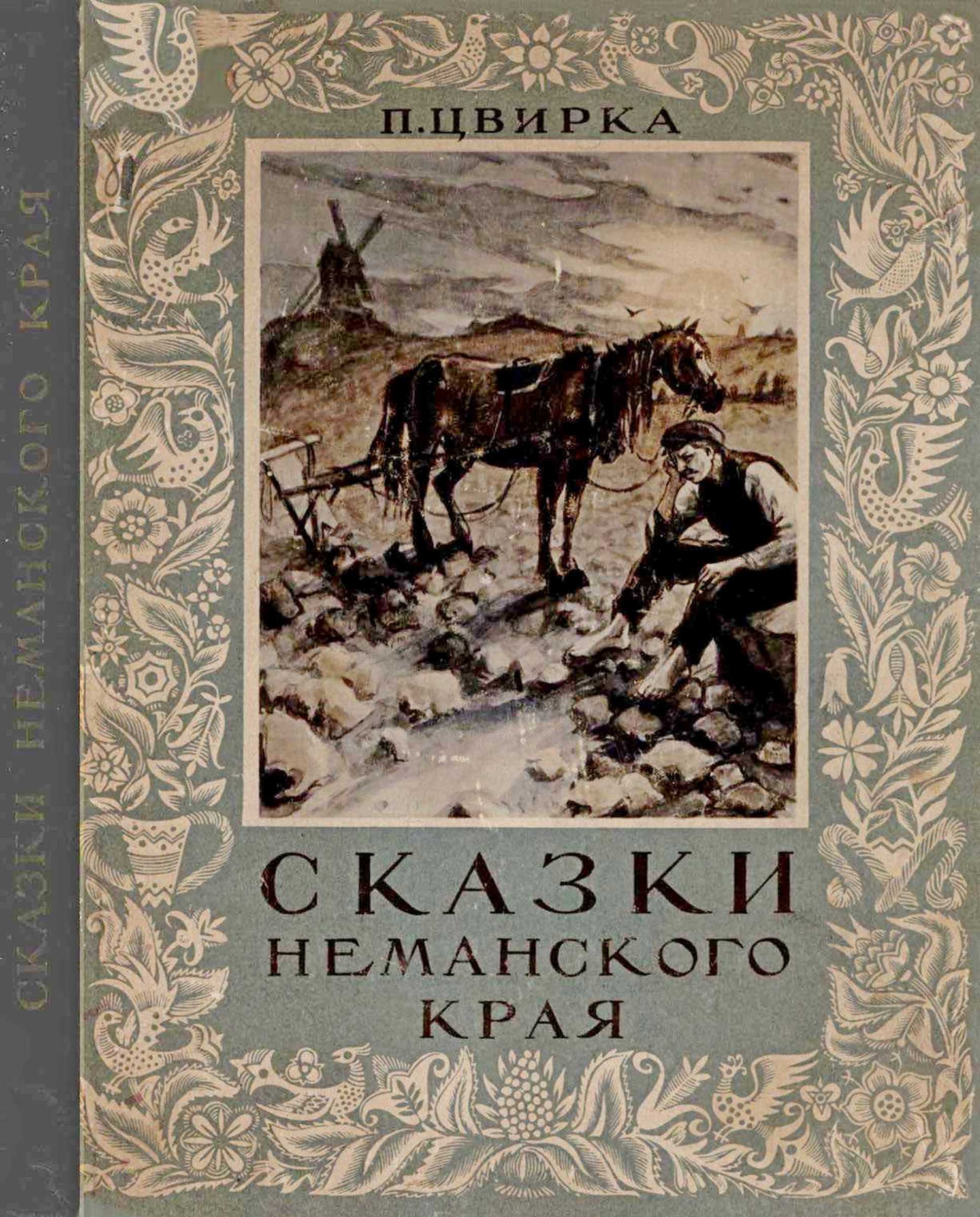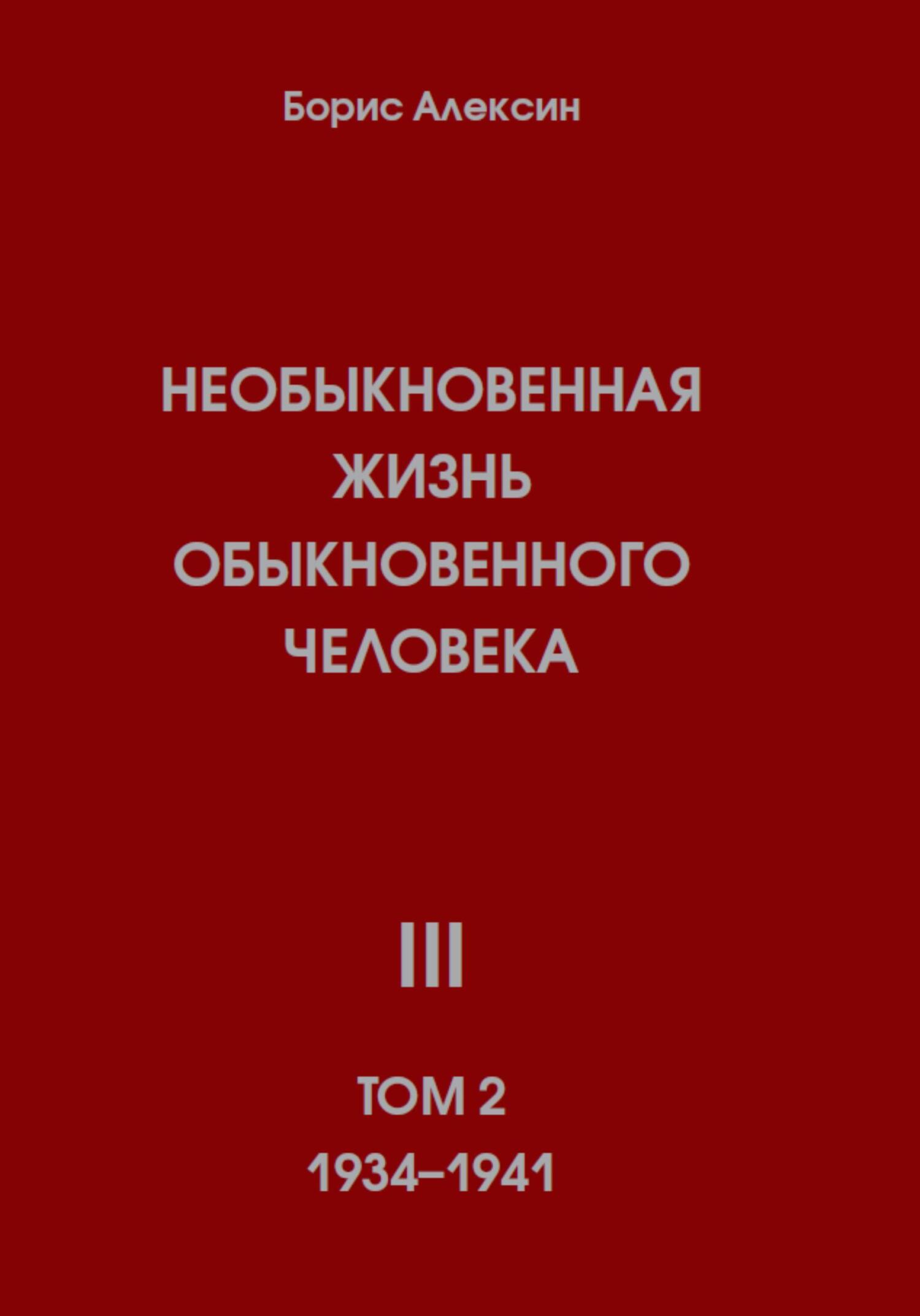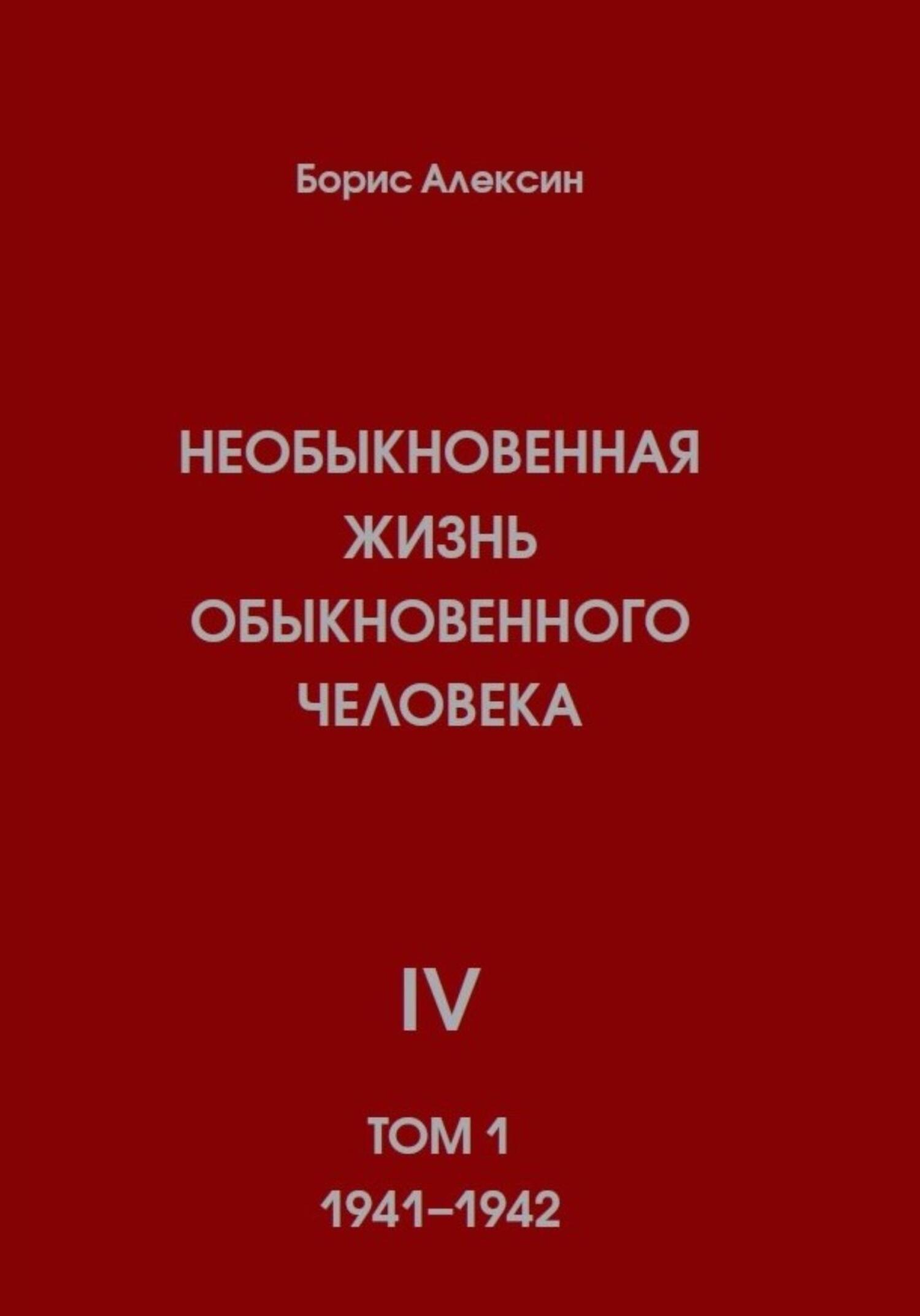Книга Крутые перевалы - Семен Яковлевич Побережник
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однажды, едучи на очередной допрос в суд скованным за руку с каким-то худощавым скуластым человеком с редкой бородкой и пепельным цветом лица, я вспомнил о невольничьих рынках с закованными в цепи рабами, описанных в книге Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Эту вещь я прочитал вскоре после окончания школы по совету учителя Яловеги. Произведение американской писательницы произвело на меля ошеломляющее впечатление. «А что, если бы сейчас меня увидел Василий Яловега?» — подумал я...
На суде меня опять долго и настойчиво допрашивали. Судья и заседатели интересовались, где я взял листовки, кто мне их дал, знал ли я, что в них написано, сколько распространил, кто помогал мне в этом деле, откуда я появился на заводе, где жил раньше и прочее. Не добившись вразумительных ответов и решив, что я был только слепым орудием кого-то, исполнителем, суд все же приговорил меня к девяти месяцам тюрьмы.
Не буду описывать, как отбывал это длительное наказание. С проклятиями на голову администрации я ложился спать на жесткую койку, вделанную в стене, и с ними вставал. Мысли не давали покоя. Вертелись они вокруг одного вопроса: спину гнут миллионы, а благами пользуется маленькая кучка, единицы. Как глупо, несправедливо устроен мир. Неужели это навсегда?
Теперь я уже понимал, за что отдали свою жизнь в тот далекий морозный январский день 1919 года Константин Чебан, Софрон Вирста, Копдрат Ткач и другие их товарищи, за что боролся с оккупантами клишковецкий бедняк Дмитро Каленчук, пробившийся потом с группой повстанцев через вражеские заставы и ушедший к котовцам за Днестр, чтобы продолжать борьбу за справедливую жизнь для всех тружеников, против угнетения и рабства в мире.
Сидя в американской тюрьме, я не переставал думать об односельчанах, погибших на моих глазах, размышлял об истоках их мужества, высокой гражданственности. И мне хотелось хоть немножко быть похожим на них...
Когда окончился срок моего заключения, власти дали мне подписать обязательство. В нем говорилось, что отныне я не имею больше права проживать в «демократических» Соединенных Штатах, а также не должен никогда возвращаться сюда. Я подписал обязательство и подумал при этом: «Выходит, меня, простого буковинского хлопца, уже боятся»...
Итак, мне предлагалось покинуть американский «рай», о котором я наслышался еще на пароходе, когда плыл из Франции в Канаду. Мой сравнительно небогатый лексикон из английских слов теперь пополнился такими понятиями, как «наручники», «тюрьма», «камера», «решетка», «надзиратель», «допрос», «суду, «приговор»...
«Стоило ли за этим пересекать океан?» — с горькой иронией подумал я.
Вынужденный пассажир „Вана“
Но после подписанного обязательства на свободу меня еще не выпустили. Под охраной, правда, уже без наручников я был доставлен в порт Балтимору.
Вдоль причала стояло много судов под разными флагами. Мутную, в маслянистых пятнах воду резали юркие голосистые, как сельские петухи, катера. Порт жил лихорадочной жизнью. То и дело кланялись портальные краны, будто прощаясь с судами, уходящими в плаванье. В воздухе плыли на тросах грузы, выгружаемые с трюмов прибывших кораблей.
В Балтиморе меня насильно посадили на старый бельгийский пароход «Ван», отправлявшийся в Южную Америку — в Чили за грузом селитры для Египта. Пароход был зафрахтован какой-то фирмой и должен был доставить селитру в Александрию.
Власти решили поскорее избавиться от моего присутствия и поэтому препроводили на борт первого попавшегося корабля, рассматривая его, как своего рода «плавучую ссылку» для отбывшего тюремное заключение бродяги. Видимо, с капитанами иностранных кораблей, заходящих в воды США, существовала какая-то договоренность на сей счет.
По дороге в Южную Америку судно заходило в порты набирать уголь. Во время бункеровки в пределах США полиция каждый раз снимала меня с корабля и заключала в местную тюрьму. Эта мера являлась «профилактикой», чтобы высланный не сбежал и не вздумал возвратиться обратно в Соединенные Штаты, куда ему вход отныне строго воспрещен.
Полиция передавала меня из одного портового города в другой, как эстафету. Длилось это до тех пор, пока, наконец, «Ван» не покинул воды Северной Америки.
Я с облегчением вздохнул. Как это замечательно, если не следят за каждым твоим шагом и ты можешь сам собою распоряжаться!
Однако меня начала тревожить мысль: что я буду делать, если капитан судна вздумает высадить по дороге в каком-нибудь порту. Ведь я представляю для него балласт, да еще с клеймом недавнего арестанта, совершившего какое-то преступление...
Эта тревожная мысль, чем я больше думал, крепла во мне, неотвязчиво преследовала, особенно по ночам, когда сон не шел. Неужели придется опять искать кусок хлеба? Опять побираться, бродяжничать, задаваться вопросом, что принесет мне завтрашний день?
Чем мог, я помогал команде, стремился принести ей хоть какую-нибудь пользу, с готовностью выполнял любое поручение: помогал мыть и драить палубу, леера, спускался в камбуз и предлагал коку свои услуги — чистить картошку и т. д. За это ко мне относились дружелюбно, участливо, давали есть, а главное, ни боцман, ни старший помощник, ни капитан ничем не намекали, что собираются меня высадить на берег. Я старался, как мог, из кожи лез, чтобы заслужить их расположение...
Я становлюсь юнгой
Почти полтора месяца длилось плаванье на бельгийском судне. Мне этого времени оказалось вполне достаточно, чтобы я влюбился в море. Крепко. Навсегда. Если бы меня спросили тогда, почему влюбился, то, вероятно, не смог бы точно объяснить. Знаю лишь одно: оно успокаивало, убаюкивало, приносило какое-то умиротворение моей молодой, но уже порядком издерганной душе.
Мне совершенно не надоедало созерцать бесконечную, синюю, как форменка военного моряка, чистую гладь воды, иногда слегка вспененную. Я любовался морскими побережьями с длинной и широкой кромкой золотисто-лимонного песка, серой галькой, отшлифованной до матового блеска волнами...
Когда я плыл в Канаду, океан часто мрачный, неприветливый, как осенний день, угнетал, вселял своим видом тревогу. Вероятно, потому, что я чувствовал с какой-то особой остротой свое одиночество, свою беспомощность, неясность будущего, не знал, как сложится моя дальнейшая судьба. Но теперь, став юнгой, будучи занятый делом, став, как я полагал, нужным на судне человеком, вдруг ощутил всю прелесть мореплавания, радость новой работы, какую-то особую свободу, которую приносит море...
Словно сказочная дорога, полная чудес, лежало передо мной море. Оно было то синее, то голубое, то