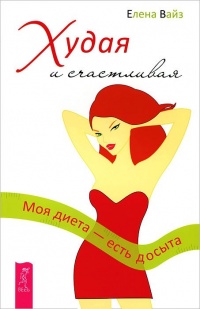Книга Солнце и смерть. Диалогические исследования - Ганс-Юрген Хайнрихс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Во всяком случае, одним из первых результатов скандала можно считать пришедшее понимание того, что так называемые «антропотехники» должны сопровождаться осмыслением антропополитики[46]. К этим выражениям мы еще вернемся. Постановка вопроса о человеке как биологическом виде, следовательно, становится определенной политикой: это – факт, на который Мишель Фуко указал двадцать пять лет тому назад в своих размышлениях о биополитике (название принадлежит ему). Впрочем, у меня есть все основания, чтобы констатировать: те эксперты, которым досконально известно положение дел в Германии с исследованиями такого рода, во время скандала высказались, в подавляющем большинстве, предметно и конкретно, переводя разговор в реальную, практическую плоскость. Эрнст Людвиг Виннакер, председатель Немецкого исследовательского общества, Ханс Лерах, координатор немецкого проекта исследования генома, Вольф Зингер, руководитель Института Макса Планка по исследованию мозга во Франкфурте, другие ученые в самый разгар бури определили свою позицию в практических, предметных вопросах – и высказали ее тоном, который, как мне представляется, вполне подходил к данному случаю. Само собой разумеется, они не признали мою правоту по всем пунктам, но в большинстве своем сочли возникшее возбуждение чрезмерным, для чего имели все основания. Они не нашли в моем тексте ничего такого, что могло бы их обеспокоить. Это определенным «ангажированным» фельетонистам и некоторым записным гуманистам удалось отыскать в моей речи нечто возмутительное.
Третий скандал внутри большого скандала пролил свет на гегемонию дискурса в немецком общественном мнении. В написанном мною некрологе новейшей Критической Теории – «Критическая Теория умерла» («Цайт» от 9 сентября 1999 года) – я раскрыл технические обстоятельства, которые привели к скандалу. Я хотел напомнить Юргену Хабермасу, который выступил как оккультный spiritus rector скандала, что не гоже в делах, которые столь важны для разрешения спора, прятаться за спины журналистов и предоставлять им выражать свое мнение. К сожалению, он не откликнулся на мое предложение обменяться аргументами. Повторные приглашения со стороны третьих лиц, предлагавших нам высказаться о наших разногласиях на подиуме, он тоже отклонил. Что касается сторонников Хабермаса, то они поначалу отнюдь не пытались меня опровергнуть. Я понимаю, что факты были постыдными для партии нападавших, так что они отнюдь не были заинтересованы в привлечении внимания к приведенным свидетельствам. Хабермас запретил перепечатывать в голландском сборнике материалов, документирующих дебаты (Regels voor het Mensenpark. Kroniek van een Debaat, Boom, Amsterdam, 2000), свое письмо, которое он, как читатель, прислал в «Цайт», и уверял в нем, что непричастен к инспирированию скандала. В этом томе собраны доклады Ричарда Дворкина, Рюдигера Сафранского[47], Антье Фольмера[48], Славоя Жижека, Роберта Шпаймана[49], Бруно Латура[50], Лоренца Йегера[51], Вима Боефинка, Анри Атлана[52] и других – это, надо полагать, такое общество, присоединиться к которому не должно быть стыдно никому. Но Хабермас предпочел отрицать свою причастность и свою ответственность. Я сделал из этого единственно возможный вывод, касающийся его личности и всего этого дела в целом: от достославной Франкфуртской школы, которая во времена Адорно и вплоть до выхода в свет «Критики цинического разума» была школой, к которой принадлежал и я и которая выступала важнейшей для меня системой, с которой я себя связывал, осталось всего ничего – лишь клика, использующая в своих интересах силу менталитета, да несколько парных – наподобие альпинистских – «связок» в университетах, которые страхуют друг друга и помогают карабкаться на вершины. Данный конкретный случай продемонстрировал, что это объединение не располагает достаточными силами, чтобы выступить в роли достойного оппонента в конфликте. Я сформулировал бы так: теория мертва тогда, когда она способна вести беседы только сама с собой.
Но в этих констатациях выражена еще не вся истина. Ведь даже если и верно, что у Критической Теории из-за ее принципиально ошибочной основы уже ничего не выходит и ей не удается произвести на свет сколь-нибудь убедительного третьего поколения своих приверженцев – что типично для любого движения, которое ориентируется только на конъюнктуру, – даже если все это и верно, то все же остается фактом, что широкий успех Франкфуртской школы на плоскости диффузного формирования менталитетов по-прежнему заметен сегодня – так же, как и в былые времена. Можно даже утверждать, что весь леволиберальный блок, представляющий собой ментальный центр поля немецкого медиаландшафта, состоит из ее неуверенных приверженцев, то есть из людей, притязающих на преимущество быть более критичными, чем все прочие, склонные к соглашательству. Для этого подавляющего большинства характерно то, что оно выдает себя за меньшинство, которое находится под угрозой, – в результате чего его гегемония подается как сопротивление превосходящей силе.
Х. – Ю. Х.: Я хотел бы выделить из ответа Хабермаса на Ваш сатирически-полемический манифест «Критическая теория мертва» два пассажа. Хабермас в своем письме, присланном в «Цайт» и опубликованном под заголовком «Почта от злого духа», называет Ваше мышление «неоязыческим». К этому он добавляет, что Вы принадлежите к «здоровому авангарду последовавшего за ним поколения», от которого он определенно не ожидает ничего хорошего. Между предикатом «неоязыческий» и словами «здоровый авангард» есть скрытая связь, которую надо прояснить, чтобы оценить намерения автора. Когда читаешь письмо Хабермаса в «Цайт», первым делом замечаешь, насколько он выходит из себя и теряет самообладание, если кто-то отваживается поставить под сомнение систему консенсуса в его школе.
П. С.: Ответ, который дал Хабермас, – это, в чисто техническом плане, ответ священника, если исходить из того определения священника, которое дает Ницше.
Х. – Ю. Х.: Философ как глашатай консенсуса и всего лишь додумыватель того, что было надумано ранее, – и, сверх того, ни слова о тех освобождающих возможностях мышления, которые открыли существенные авторы этого века – Батай, Валери, Канетти [53], Адорно, Беньямин, Фуко и Делёз. Мне остается только поставить вопрос: может ли вообще исчезнуть это принуждение к ограничению, пропадет ли когда-нибудь эта внутренняя закоснелость академической философии; можно ли будет навести мосты через пропасти?