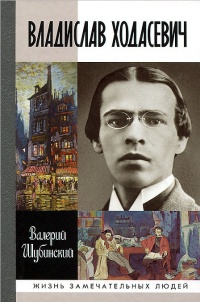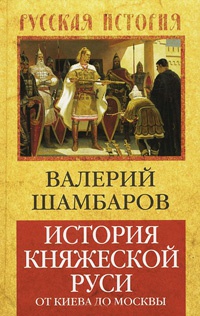Книга Лета 7071 - Валерий Полуйко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Немого коробит от этой неутаивающейся презрительности и самонадеянности Кашина. Плюнул бы в его разлукавую рожу – ох и рожа: борода апостольская, а усок дьявольский! – да не плюнет, ведь это все равно что в собственную рожу плюнуть. Не многое разнит их!
– Спета его песенка, – говорит Немой равнодушно, и чувствуется в его равнодушии тонкое отмщение кашинской надменности.
За боярским столом вольготная суетня, шум, веселье… Повзбодрились бояре с царским уходом, пораспрямились, рассупонили свою спесь, распнули свою широкость: не стало над ними царского глаза, не стало его суровой и злой пристрастности, ну и дали себе волю! Хоть ненадолго, на несколько часов лишь, а все ж вольны!.. Вольны встать из-за стола – и не скромненько, не с поклоном царю, и не с мольбой в глазах, когда нет уже мочи осиливать перепотчеванное чрево, а легко, и свободно, и запросто, как у себя дома, – вольны громче обычного кликнуть слугу да и в морду вольны ему съездить от пущего куража, вольны в полный голос говорить, смеяться, вольны, коль заблагорассудится, и на голову стать – кто их теперь урезонит, кто остепенит?!
Воевода Шереметев в злом истерпье подзывает к себе прислужников, велит снести себя до ветру. Смешон воевода на руках у прислужников – этак-то носят по улицам в срамной рубахе баб-блудниц.
Князь Хилков, распираемый хохотом, сыпанул вслед куражливый мат – не в обиду воеводе, в потеху иным, – и завихрился по палате скоромный хохот: над боярским столом – откровенный, идущий из самой утробы, над столом окольничих – более сдержанный, притаенный, но и ехидноватый, с тонкой злорадинкой, от которой никогда не может удержаться ни одна окольническая душа, если выпадает удобный случай в чем-нибудь попотешиться над боярами! Хохочут – как розгами секут! Зато там, где порассеялась мелкая сошка – не родовитые, не чиновные: подьячие да прочий приказный люд – от приставов до судебных старост, – там совсем иные страсти, там не хохот, там хохоток – услужливый, вежливый, мягкий, как подовый пирог…
У всей этой служилой мелюзги душа всегда на привязи, и боже упаси дать ей хоть в чем-нибудь волю! Безликие, услужливые, приятные – везде и во всем, – тем они и сильны, оттого и живучи, оттого и неуязвимы, и счастливы тем!.. Какие только ветры не дуют над ними!.. Какие грома громыхают! Рушатся судьбы, падают головы, жизнь разверзается до самой истошной своей безобразности и затягивает в свои смрадные глубины всё и всех… Всех, но не их! Они остаются – неизменные, неизбывные в своей терпимости и стойкости, неуязвимые в своей заурядности, хитрые своей бесхитростностью и страшные своей живучестью.
Унялся хохот в палате, да не унялся Хилков: пошел он тормошить да пинать под бока поулегшихся на полу вдоль стен истомившихся от хмеля и бессонья гостей. Следом за ним увязался (поплелся!) Салтыков. Сам-то вот-вот в себя пришел царский оружничий… Дюжий хохот бояр пробудил его, а то ведь дрых боярин на столе, ткнув холеное лицо свое в кучу рыбных объедков. На бороде так и осталась прилипшая чешуя.
Хилков сапожиной под бок, а то и в сурло прямо (потешней – в сурло!), а Салтыков зловещим громом:
– Так-то царя встречаете!..
Вскинется бедолажный от этого покрику как ошпаренный – в глазах ни сна, ни хмеля… Все улетучивается вмиг! Жуть закатывается под веки, рот немотой сводит, рожа от страху по шестую пуговицу вытягивая стоя, а Хилков с Салтыковым – за животы…
Всех поснувших переполошили в палате, один лишь князь Юрий – убогий царский братец, свернувшийся калачиком на троне, куда он в блаженной простоте перебрался после ухода Ивана, не проснулся от глухоты своей.
Князь Дмитрий Вишневецкий, с простецкой казацкой бесцеремонностью умостивший свою лохматую голову меж золотых блюд и чаш, прокинулся от дурных покриков Салтыкова, недоуменно порыскал глазами по палате, соображая что к чему, и, видать, до конца так и не поняв происходящего, опять опустил голову на стол.
– А что, князь, – подавшись к Вишневецкому, негромко сказал Мстиславский, – у Жигимонта так ли вольготно на пирах?
– У Жигимонта, шановный князю, паны панами, а блазни[217] блазнями, – ответил язвительно Вишневецкий. – Чрез то он и нищ, круль-то… Трех коп грошей не сыщется в его скарбне! – с заумной рассудительностью прибавил он, насмешливо засматривая в глаза Мстиславского. – Бо йому за едну справу на две строны плациць тшеба… На едну – панам, на другу – блазням! Како ж того скарбу настачишь? А на Московин, глянцу я, бардзо добрый та разумный у господаря ужитэк[218]. У него и паны и блазни – в едином лице.
Мстиславский как-то странно улыбнулся, выслушав Вишневецкого, – не то согласно, не то сожалеюще, и переглянулся с Челядниным. Челяднин уныловато и тяжело вздохнул, устало смежил глаза.
– Злословен ты, князь, – с мягким укором проговорил Мстиславский.
– Да прав, – не открывая глаз, буркнул Челяднин.
– Ужли прав? – невозмутимо и по-прежнему мягко сказал Мстиславский. – Заблагорассудится князю похлебить царю, пусть повторит ему свое суждение.
Вишневецкий тоскливо потянул со стола чашу с вином… Мстиславский подождал, пока он выпьет вино, спокойно, вполголоса продолжал:
– Нынче у нас на Москве всяк пеший[219] в боярина грязью метит. Ату их, бояр!
– И поделом, – вновь буркнул Челяднин.
Мстиславский вяловато улыбнулся… Он как будто ждал этого от Челяднина и не ждал, и эта деланная улыбка что-то скрыла в нем – то ли растерянность, то ли радость, но заговорил он все тем же ровным, спокойным, лишь чуть более приглушенным голосом:
– Вот уж и сами себя хулим… Да дай Бог, чтоб сие от лукавого шло. Тебе ж, князь, хочу ответить на твои рассуждения своими рассуждениями. Не возмни, будто от обиды устремленье мое… Вон боярин един с тобой душой, да и я не стал бы на правду восставать… Однако же… праздник наш – не пустое винопитие. На победном пиру сидим, князь… А шутовскими бубенцами, как ведомо, крепостей не рушат…
Было шумно, и вряд ли кто мог слышать Мстиславского, даже прислушивающийся Левкий, сидевший на противоположном конце стола, но Мстиславский все равно оглушал голос, наполняя его какой-то особой, тонкой, подкупающей доверительностью, и чувствовалось, что делает он это намеренно, желая придать всему разговору побольше таинственности и связать с собой этой таинственностью, как круговой порукой, и Вишневецкого, и Челяднина, сделать и их причастными ко всему, что выскажет он и затронет.
– …и шуты побед не добывают ратных. Шуты в ином преуспевают, князь. И стало быть, раз мы победу празднуем – кто-то добыл ее! Государи, что також ведомо, полков не водят, и с ратью на приступ не ходят, и меч свой лише в гневе на подданных своих обнажают. А Полоцк-то пал, сокрушена твердыня литовская! Стало быть, князь, коли дело великое приспевает, сыскиваются и средь нас таковые, что годны на великое… И приспеет час себя щитить, свой дом, обычаи предков наших, мы и в том деле рьяность явим, и силу свою, и твердость, и непреклонность.