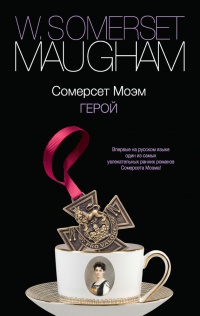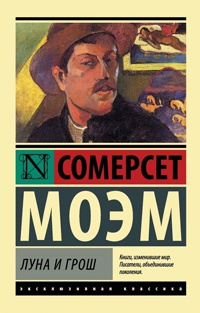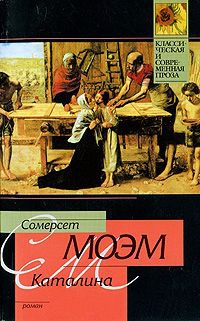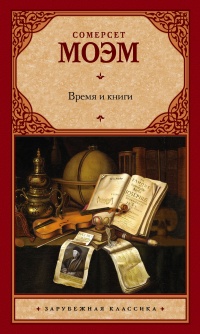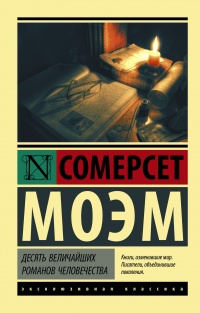Книга Бремя страстей человеческих - Уильям Сомерсет Моэм
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Филип стал прилежно читать финансовый отдел своей газеты. Он сделался нервным и раздражительным. Разок-другой он резко осадил Милдред, а, так как она не обладала ни терпением, ни тактом и отвечала запальчиво, дело у них кончалось ссорой. Филип всегда извинялся потом за грубость, но Милдред была злопамятна и дулась по нескольку дней. Всем своим поведением она начинала действовать ему на нервы: и тем, как держала себя за столом, и неряшливостью, с которой разбрасывала в гостиной предметы своего туалета. Филипа волновала война – утром и вечером он с жадностью читал газеты; ее же не интересовало ничто. Она познакомилась с несколькими соседками, и одна из них спросила, не хочет ли она, чтобы к ним зашел священник. Милдред носила обручальное кольцо и именовала себя миссис Кэри. У них на стенах висело несколько рисунков, сделанных Филипом в Париже – обнаженные фигуры двух женщин и Мигеля Ахурии, крепко стиснувшего кулаки и упершегося ногами в землю. Филип берег эти рисунки – они были его лучшими работами и напоминали о счастливых днях. Милдред давно уже на них косо посматривала.
– Мне бы очень хотелось, Филип, чтобы ты снял эти картинки, – сказала она наконец. – Вчера заходила миссис Формен из дома тринадцать, и я не знала, куда глаза девать. Она так на них уставилась!
– А что в них плохого?
– Сплошное неприличие! Это просто гадость – держать на стенах картинки с голыми людьми. И для ребенка нехорошо. Девочка уже начинает понимать.
– Как ты можешь говорить такие пошлости?
– Пошлости? Если хочешь знать, меня просто стыд берет. Я тебе ни слова не говорила, но ты думаешь, мне приятно целый день глазеть на голых баб?
– Неужели у тебя совсем нет чувства юмора? – сухо спросил он.
– При чем тут чувство юмора? Вот возьму, да и сниму их сама. Гадость это, и больше ничего, вот что я тебе скажу.
– А меня не интересует, что ты скажешь. Я запрещаю тебе трогать эти рисунки.
Когда Милдред на него злилась, она вымещала злость на ребенке. Девочка привязалась к Филипу не меньше, чем он к ней, и величайшим ее удовольствием было забираться по утрам к нему в комнату (ей шел второй год, и она довольно хорошо ходила) и влезать с его помощью к нему на постель. Когда Милдред ей это запретила, бедная девчушка горько расплакалась. В ответ на уговоры Филипа Милдред отвечала:
– Я совсем не желаю, чтобы она привыкала Бог знает к чему.
А если он продолжал настаивать, она добавляла:
– Не твое дело, это мой ребенок. Послушать тебя, можно подумать, что ты ей отец! Я мать, и мне виднее, что ей можно и чего нельзя!
Ее глупость раздражала Филипа, но теперь он был так равнодушен к Милдред, что ей редко удавалось вывести его из себя. Он привык к ней. Наступило Рождество, а с ним – несколько свободных дней для Филипа. Он принес ветки остролиста и украсил ими комнаты, а в рождественское утро сделал Милдред и ребенку маленькие подарки. Традиционная индюшка была бы слишком велика для двоих, – Милдред зажарила цыпленка и разогрела рождественский пудинг, купленный в соседней лавке. Они разорились на бутылку вина. После обеда Филип закурил трубку и устроился в кресле у огня; захмелев с непривычки, он забыл на время о денежных заботах, которые не покидали его теперь ни на минуту. Он испытывал полное довольство. Вошла Милдред; она сказала, что ребенок хочет поцеловать его на ночь, и, улыбнувшись, он пошел к ней в спальню. Филип велел девочке спать, потушил газ и, оставив на всякий случай дверь открытой, вернулся в гостиную.
– Куда ты хочешь сесть? – спросил он у Милдред.
– Ты сиди в кресле. Я сяду на пол.
Когда он уселся, она устроилась у огня, прислонившись к его коленям. Он вспомнил, что так они сидели в ее квартирке на Воксхолл-Бридж-роуд, но теперь роли переменились; тогда на полу сидел он, и его голова покоилась на ее коленях. Как страстно он в то время ее любил! В нем пробудилась нежность, какой он давно к ней не чувствовал. На шее у себя он все еще ощущал мягкие ручки ребенка.
– Тебе удобно? – спросил он.
Она подняла на него глаза, чуть улыбнулась и кивнула.
Мечтательно глядели они на огонь, не говоря ни слова. Потом она повернулась и посмотрела на него с любопытством.
– Знаешь, – сказала она вдруг, – ты ведь не поцеловал меня ни разу с тех пор, как я сюда переехала.
– А тебе этого хочется? – улыбнулся он.
– Наверно, я тебе больше не нравлюсь?
– Я к тебе очень привязан.
– Ты куда больше привязан к ребенку.
Он не ответил, и она прижалась щекой к его руке.
– Ты на меня больше не сердишься? – спросила она, не поднимая глаз.
– За что я на тебя должен сердиться?
– Я никогда не любила тебя так, как сейчас. Только пройдя через огонь, я научилась тебя любить.
Филипа передернуло, когда он услышал эту фразу: Милдред явно вычитала ее из дешевых романов, которые поглощала пачками. Он подумал о том, имеют ли эти слова для нее какой-нибудь смысл – может быть, она просто не умеет выразить свои чувства, не прибегая к высокопарному языку «Фэмили геральд».
– Странно жить вместе так, как мы живем.
Он долго не отвечал, и снова наступило молчание; наконец он заговорил, словно никакой паузы не было:
– Не сердись на меня. Тут уж ничего не поделаешь, Помню, я считал, тебя злой и жестокой потому, что ты поступала так, как тебе хотелось, но это было глупо с моей стороны. Ты меня не любила, и попрекать тебя этим нелепо. Мне казалось, я сумею заставить тебя полюбить, но теперь я знаю, что это было невозможно. Понятия не имею, откуда берется любовь, но, откуда бы она ни бралась, в ней-то все и дело, а если ее нет, нельзя ее вызвать ни лаской, ни великодушием, ни чем бы то ни было еще.
– А я думаю, что если бы ты когда-нибудь меня любил, то, наверно, любил бы и сейчас.
– Я тоже так думал. Помню, мне казалось, что любовь моя будет вечной и лучше умереть, чем жить без тебя; мне даже хотелось, чтобы поскорей наступило время, когда ты увянешь, постареешь, никому больше не сможешь нравиться и будешь только моей.
Милдред промолчала, но скоро она поднялась и сказала, что ложится спать.
Она робко улыбнулась.
– Сегодня Рождество, Филип, неужели ты не поцелуешь меня на прощание?
Он рассмеялся, чуть-чуть покраснел и поцеловал ее. Она ушла к себе в спальню, а он взялся, за книгу.
Кризис наступил через две или три недели. Поведение Филипа довело Милдред до полного исступления. В ней боролись самые противоречивые чувства, и она легко переходила от одного настроения к другому. Милдред подолгу оставалась одна, угрюмо размышляя о своем положении. Она не смогла бы выразить своих ощущений словами, да и не отдавала себе в них ясного отчета, но некоторые обстоятельства приобретали в ее глазах преувеличенное значение, и она не переставала о них думать. Милдред никогда не понимала Филипа, и он ей не особенно нравился, но ей приятно было иметь с ним дело