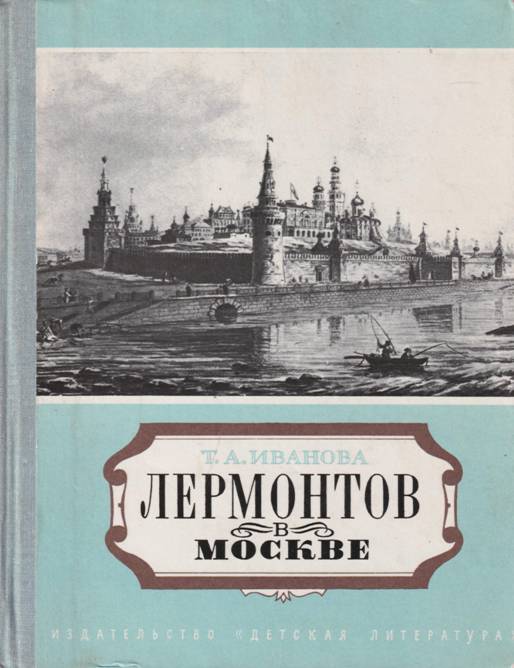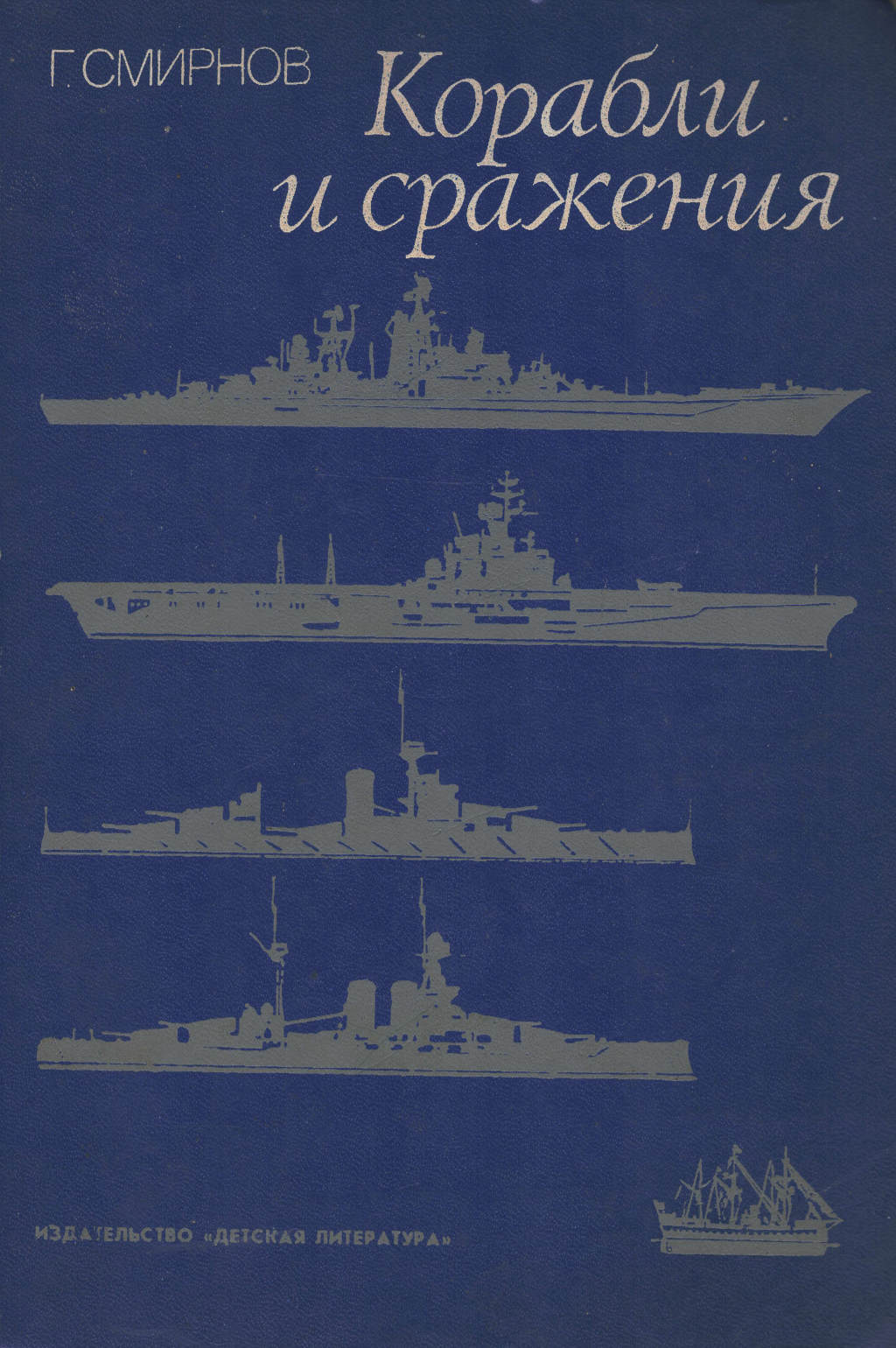Книга Полное и окончательное безобразие. Мемуары. Эссе - Алексей Глебович Смирнов (фон Раух)
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
За Малевичем мы видим большой зал русского абстрактного искусства. Большинство полотен этого зала мне хорошо знакомо по коллекции Костаки. Было бы неплохо почтить его память, потому что многие произведения буквально вытащены им из печки и из сырых чердаков и сараев. Вся эта живопись приблизительно одного очень хорошего европейского уровня. Одинаково хорошо смотрится и Татлин, и целая стена Любови Поповой, и Родченко, и извлеченный из небытия Костаки Клюн, и Экстер, и Чашник. По-своему этот зал загадочен, он находится в отрыве и от национальной византийской традиции, и от русского сезанизма, и от примитивизма. Это как бы прорыв виной мир, преддверие будущего американского и европейского авангардизма. По сравнению с Малевичем все эти мастера рангом несколько ниже, но именно они смотрятся сейчас суперсовременно, гораздо современнее ныне повсеместно принятого постмодернизма, как бы перешагивая в 21 век. Именно в этом зале забываешь обо всех ужасах, тяготах и безобразиях 20 века и думаешь, что настоящее искусство чисто, прозрачно и надмирно. Как мне кажется, именно этот зал является самой большой удачей экспозиции. Дальше авторы экспозиции как бы подводят нас к феномену соцреализма, перекидывая мосточек фигуративной живописи. Среди этих полотен есть любимый Костаки триптих Редько 1925 года «Восстание». В центре триптиха есть и Ленин, и броневик, но все это носит кошмарный платоновский характер. Хотя сам Редько, по-видимому, не пытался никого обличать, а был подвержен всемирно-революционным настроениям. Костаки, сам переживший 1930-е годы, буквально молился на триптих Редько: «Останься одно это полотно, и все, что произошло в нашей стране, можно здесь прочесть».
Рядом висит и картина Никритина «Суд народа» 1934 года. На эту картину я более всего поражался еще в квартире Костаки на Юго-Западе. Таких гениальных угадываний сути происходящего очень мало в мировой живописи, это сравнимо только с Гойей и с некоторыми немецкими антифашистами-экспрессионистами. За столом сидят три судьи, у двоих лица смазаны, а у третьего лицо — смертный приговор. Это единственное полотно настоящего, глубинного антисоветчика, который, несомненно, сам ждал расстрела.
Отдельный зал посвящен петроградским салонным модернистам. Туги светский портрет дамы Альтмана, и цветы Бориса Григорьева, и Леон Пастернак, и автопортрет Александра Яковлева, и желтые шухаевские купальщицы с обвисшими трудями до низа живота, и несколько больших графичных полотен Юрия Анненкова, от которых идет специфический запах Смольного, Луначарского, Блока и всего неблагополучия первых революционных лет Петрограда. И Александр Яковлев, и Шухаев, и Анненков оказались потом в Париже, так что на них стирается грань между петроградской и парижской живописью. Почему-то в экспозиции не нашлось места для талантливой Серебряковой, по своему стилю совсем не мирискусницы, парижские пастели которой, изображающие балерин и американских миллионеров, по просветленности палитры близки к позднему Дега. Вот на этом бы и окончить экспозицию русского искусства 20 века, так как все, что было показано, при всем разнообразии направлений и стилей, относится к материку искусства. Вокруг всех этих картин кипели живые страсти, они были окружены живыми людьми, и критика на них издавалась в еще тогда свободных журналах. А дальше мы имеем обрыв ленты и мелькание искаженных злобой оскалов Ленина и прищуров Луначарского. С этого времени художники чувствовали у своего затылка холодок «товарища маузера» и всегдашний контроль: «Что ты там, братец, у себя малюешь и идет ли это на пользу дела партии и пролетариата?» Были введены пайки для нужных художников, а ненужных морили голодом вплоть до самого 1991 года.
В оппозиции к советской власти оказалось очень много художников: салонные академисты, мирискусники и большинство реалистов всех мастей. Большинство из них было консервативно, так как обслуживало правящие классы царской России. Все эти бородатые господа в пенсне шипели на большевиков и на часть авангардистов, которых привлек к наглядной уличной агитации Луначарский. Но недолог был роман Кандинского, Шагала, Малевича с «товарищами». Они быстренько оказались в Париже и Берлине, а те, кто остался в России, вели голодное и полуголодное существование, периодически оформляя книги и спектакли. Но некоторые из футуристов, вроде Маяковского и семейства Брик, плотно вросли и в красную систему, и в Лубянку. Недолгое сотрудничество авангардистов с большевиками углубило бездонную трещину между оставшимися в России реалистами и всеми представителями левого искусства, которых политически-эстетические консерваторы стали навеки считать предателями и лакеями красных.
Об этом как-то мало всюду писали, создавая всесветный миф о том, что было некое коммунистическое левое искусство 1920—30-х годов. Этот миф по своей природе спекулятивен и поддерживался резидентами ОГПУ и НКВД в Европе, чтобы заманивать западных левых интеллигентов. Конструктивизм прижился только в архитектуре, в дизайне интерьеров и прикладничестве. Но и то это было скорее типично русское обезьянничество из европейских журналов стиля арт-деко. В 1920-е годы были велики иллюзии, что в Германии победит свой большевизм, и в Советскую Россию поэтому часто привозили выставки немецких экспрессионистов, сильно повлиявших на ранний соцреализм. В экспозиции есть целый ряд работ Федора Богородского, изображавшего беспризорных и матросов. Жуткие синюшные рожи этих дегенератов Богородского по-своему правдивы. Сам Богородский похвалялся, что он служил в ЧК и расстреливал белых офицеров пачками. Когда же вермахт подпирал к Москве, он ходил и плакался, что он никого не расстреливал и врал на себя, чтобы выйти в люди. Рядом с Богородским висит огромное полотно Соколова-Скаля «Таманский поход», и опять сподвижники командарма Ковтюха изображены нелицеприятно — тоже чудовищные физиономии с налетом дегенерации. Сам Соколов-Скаля был из семьи белых офицеров и выслуживался перед новой властью. Автор знаменитого «допроса коммунистов» Борис Иогансон был в прошлом колчаковским офицером и по воспоминаниям молодости написал свое хрестоматийное полотно. Но период экспрессионистического соцреализма с элементами живых наблюдений скоро окончился.
Пришедшему к власти Сталину нужно было розовое, оптимистическое искусство. В это время партия уже начала выдавать систематические дотации художникам. У горнила госзаказов в это время еще сохранялась когорта мастеров, сформировавшаяся в 1920-е годы. Многие из них были еще близки с Луначарским и привыкли от его имени командовать изоискусством. В их руках были и ВХУТЕМАС, и ленинградская Академия художеств. В обоих заведениях, захвативших еще дореволюционные центры искусства, проводились руками студентов массовые погромы. Били слепки с