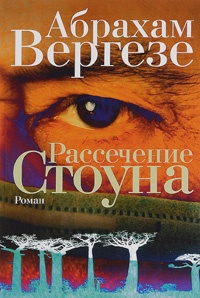Книга Живи и радуйся - Лев Трутнев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– В художественное бы училище – рисовать тянет, и хвалил меня учитель. – Сразу вспомнился Павел Евгеньевич, его сестра, уютная квартира, картины, разговоры…
Иван Иванович потеребил ухо.
– Они все далеко. Тебе туда не добраться: где возьмешь денег на дорогу, на житье? Да и от своих не близко, не наездишься. Ни им, ни тебе не будет никакой поддержки…
Эх, мечты, мечты! Сбывались бы они. Да чаще не от нас это зависит – от обстоятельств. А они не шли ко мне в попутчики.
– Ладно, – закончил наш душевный разговор Иван Иванович, – по поводу ФЗУ я переговорю с Погонцом. Как-никак я у него в партийном бюро, а это что-нибудь да значит…
И день разгулялся: когда я вышел на улицу – во всю светило яркое солнышко…
1
Неприятности, как и беды, в одиночку не ходят. В самый последний, Прощеный день Масленицы – целовальник, ударила меня нежданная новость под дых: от Паши Марфина узнал я, что Петруня Кудров пошел свататься к Насте Шуевой с бойкой на язык Маней Вдовиной – старшей сестрой Васика Вдовина – друга Петруни.
– Айда поглядим, – позвал Паша, не ведая, что у меня в ушах зашумело и грудь сжало, как обручем. – Там уже народ толчется…
Каждодневная серость деревенской жизни, с рассвета до заката знавшей одно – работу и работу, повторяющуюся в своем сезонном однообразии, редко осветлялась каким-либо особым случаем, и тогда люди, истомившиеся по новизне, по пище для пересудов, стекались в неотвратном любопытстве, как мотыльки на свет, к тому двору, где что-то происходило.
Понуро, стараясь не выдать своей горечи другу, шагал я за Пашей, чуть поотстав, волоча валенки в галошах по сырому, оседавшему в таянии снегу. Бились думки не накатной волной. Та слабенькая паутинка надежды на то, что рано или поздно мои отношения с Настей могут подняться до чего-то серьезного, и вовсе оборвалась. Да и надежда ли то была? Скорее – желание, и желание не плотское – поскольку я даже не пытался представить себя и Настю в той близости, что была у меня с Ниной в Иконниково. Влекла меня к ней ее броская красота, влекла с той же необъяснимой силой, что появляется при виде вообще любой красоты. В силе той и изумление, и почтение, и желание не проходящего соприкосновения с совершенством, духовным идеалом… Да и доброта Настина всегда осветляла душу…
Солнце поднялось к зениту: глянешь – шапка слетит, и до того ярое, что на все окрест будто тонкую сеть в золотинках набросили. А снег и вовсе расплавленным серебром зыбился. Воробьи под навесами делили что-то свое, исчирикались. Петухи на оттаявших навозных кучах гоношились с бравым квохтаньем и кукареканьем. Полусонная скотина отогревалась на солнцепеках… А по мне день был ни в день…
Изба-мазанка Шуевых в шесть окон – два в палисадник, четыре – во двор – отгородилась от улицы пряслами, подпертыми крутым сугробом и дворовыми постройками в навесах. В ограде и топтались любопытные, припадая к двум окнам, что поближе к палисаднику. Оттесняя друг друга: оттягивая или просто толкаясь, липли они к стеклам, загораживаясь ладошками от световых бликов, чтобы разглядеть, что делается в избе. Нагловатое то любопытство никак не осуждалось в деревне, наоборот, – считалось даже обидным, если в таких случаях никто не проявлял интереса к происходившему. Именно с этих погляделок, с разговоров, судов-пересудов и начиналась своеобразная игра на народ, включающая и хвастливую показуху, и гордыню, и почитание традиций…
Паша бесцеремонно отодвинул какую-то молодку и дернул меня за рукав. Вначале, после ослепляющего света, я почти ничего не разглядел в полумраке избы. Но кто-то из подглядывающих дал щелку, и в нее прорвались солнечные лучи, упали на Настю. И вон она – красавица: волосы – отбеленный лен, собраны в толстую косу, перекинутую через плечо на грудь; глаза – чернее черного, в широком распахе, чуточку суженные; брови над ними высоко, такие же черные – узкой полудугой; лицо – белого мрамора с едва заметным румянцем, иконописное, с прямым аккуратным носом, сочными, слегка полноватыми губами макового цвета… После я никогда не встречал женщин, подобных ей: не крашенных блондинок с черными глазами и бровями, чистым и удивительно нежным лицом… И это в глухой деревне, в крестьянстве, где тяжелой и грязной работы, да еще в разное время года и в разных условиях, хоть отбавляй. Красота Насти была редкой, а возможно, и того выше – исключительной. Глядел бы да глядел не отрываясь, тешил сердце. Да и мягкий ласковый голос Насти всегда успокаивал…
Скорая на говор Маня Вдовина, прозванная за свою способность Сорокой, что-то балаболила, жестикулируя руками, из-за двойных рам ее не было слышно, но тонкие губы Мани трепетали, то вытягиваясь, то сужаясь, как в немом кино, и смешно было на это глядеть. Настя сидела за столом, чуточку улыбалась и изредка косилась на дверь, будто кого-то ждала. А Петруня, в новом, слегка помятом пиджаке, видимо, вынутым по случаю из сундука – в нем я Кудрова никогда не видел, – слегка сутулился на лавке в полуобороте к окнам, какой-то растерянный, молчаливый, не похожий на того гармониста, которого знали все.
– Не будет ему талана, – шушукались бабоньки-старушки, – ведь что удумал – завтрева пост начинается, а он со сватовством.
– Бывало, девка, такое бывало – сватались в Масляну, но чаще к ней уже свадьбы отыгрывали.
– Свадьбу-то они и осенью могут сладить.
– Раньше-то, прежде чем свататься, и засылки были, и смотрины, и глядины…
– Щас не те времена…
– Да, торопится чтой-то Петруха. Года два-три ходил вокруг да около, а тут на тебе.
– Забоялся, видно, что Алешка Красов перехватит. Пока тот был в примаках – Петруня не решался сунутся к Насте, она и сейчас вряд ли ему слово дала.
– Как Грунька потешилась с Разуваевым в баньке, так Алешка и стал женимый.
– И то дело: жили не по путю, сбегом…
– Оно и раньше говаривали: худой жених сватается, доброму путь кажет…
И как в воду глядела какая-то из сударок: краем глаза я заметил входящего в открытую калитку Алешку Красова. Он был без шапки. Темные, будто вымазанные дегтем, его волосы, слегка вьющиеся, падали на высокий лоб густой прядью чуба. Лицо у Алешки – точеное, словно из дерева резано, смуглое, слегка скуластое, с прямым, в небольшой горбинке, носом…
Не до разговоров сделалось. Все обернулись, примолкли. А он остановился, окинул толпившихся зевак чуть прищуренными, в глубокой посадке, глазами, усмехнулся и шагнул в сени.
– На перебой идет, – сказал кто-то вслух.
Что тут началось! Ринулась толпа к окнам. Да разве вместить все любопытные головы в две рамы? Паша прикрыл меня сверху, корячась – все же догадывался он о чем-то – и мне досталась полоска стекла у прирамника, в самом низу. Я увидел, как вошел Алешка в избу, как осеклась в говоре Маня-Сорока, как побледнел Петруня, как еще больше выпрямилась Настя, перестав улыбаться. А Красов, видимо поздоровавшись, прошел к столу и, вынув из кармана брюк бутылку с золоченым горлышком, поставил на стол и еще что-то положил рядом. Таких бутылок я не видел. Лишь после разнеслись слухи, что Алешка, придя свататься, принес шампанского и шоколаду, за которыми по утрянке смахал пешком в Иконниково. Как уж там он раздобыл это – осталось неизвестным…