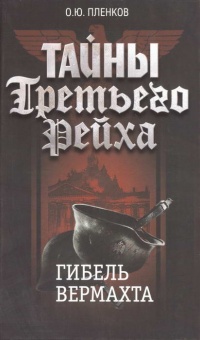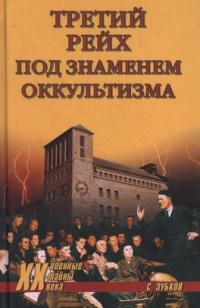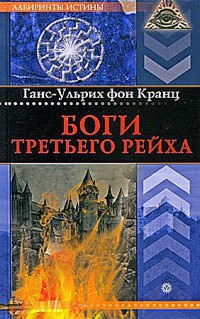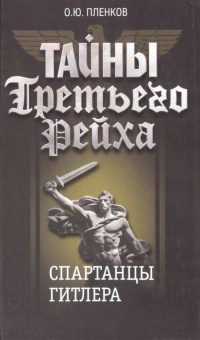Книга Дети Третьего рейха - Татьяна Фрейденссон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Стоя на пригорке, я разглядывала черепичную крышу двухэтажного дома в баварском стиле и думала о том, о чем думает среднестатистический россиянин, находясь у дома немецкого градоначальника: это были непечатные мысли о том, отчего здесь, в Германии, всё так замечательно правильно и просто – ни «мерседесов», ни мигалок, ни охраны, лишь простор, ясное небо над крышей, молодые яблони и изящные кипарисы, чередующиеся с кустами роз…
Территорию вокруг дома было трудно назвать огромной – и то же время она не производила ощущения крохотного кусочка земли. Она была обустроена и ухожена – видимо, садовник наведывался сюда регулярно.
Я нажала на кнопку звонка, и маленькие воротца, скорее элемент декора и обозначение границ частной собственности, чем попытка оградить участок от любопытных глаз прохожих, открылись. Мы с Сергеем и оператором сошли вниз по дорожке и оказались у входа в дом. Слева от входной двери стояла огромная деревянная скамейка: мне тут же подумалось, что неплохо было бы упросить чету Роммелей выйти и посидеть на ней, чтобы получился хороший кадр: мы снимем их сверху – с дорожкой, спускающейся к дому, через кипарисы и кусты роз…
Если только Манфред сможет выйти из дома…
Дверь открылась, и на пороге возникла пожилая женщина. Она мягко улыбнулась, по-старчески хихикнув, не без некоторого милого кокетства: «Здравствуйте! Я – Лизелотте Роммель» – и протянула сухую загорелую руку для приветствия.
Передо мной стояла типичная немка. Мне показалось, что фрау Роммель далеко за семьдесят. Судя по всему, Лизелотте и в юности не отличалась броской красотой, но она определенно была мила и трогательна. На ней была белоснежная хлопковая майка, поверх которой хозяйка дома надела темно-синюю хлопковую кофточку с изящным кружевом вокруг отточий пуговиц. На шею Лизелотте повесила кокетливые бусики из темно-синих кругленьких пластмассок.
На безымянном пальце правой руки Лизелотте красовалось простое широкое золотое кольцо: немецкие украшения зачастую вообще грубоваты. В кольцо был вделан зеленый камушек – совершенно точно не изумруд, скорее не самый дорогой нефрит. Похожее кольцо я позже заметила на руке у Манфреда, что утвердило меня в мысли о том, что мы – в доме образцово-показательной семьи, которая привыкла проповедовать традиционные ценности и теперь не мыслит своей жизни без них.
Лизелотте пригласила нас в дом, смущаясь и мило хихикая, наверное, от некоторого нервного напряжения. Она казалась несколько заполошной, но активной и деловой, и мне стало ясно, что Манфред Роммель – в надежных руках.
– Как себя чувствует герр Роммель сегодня? – поинтересовалась я, входя в дом вслед за хозяйкой и ощущая, что внутри нет кондиционера.
– Нормально, он молодец, – бодро ответила фрау Роммель.
Проследовав за Лизелотте, мы оказались в маленькой прихожей, потом – в небольшой проходной комнате. Стены ее были без обоев, зато все увешаны гравюрами в паспарту и простеньких рамочках, не согласующихся между собой. У окна – старинный деревянный шкаф, на котором красовались старые железные баварские пивные кружки.
Слева – деревянная лестница, ведущая на второй этаж. Мощные белые межкомнатные двери и белые косяки – в цвет стен и потолка. За одной из этих белых дверей, в гостиной, нас ждал единственный сын генерал-фельдмаршала Третьего рейха Эрвина Роммеля – Манфред.
Похож ли он на своего отца? Нет. Скорее он походит на огромного породистого пса, шумно дышащего и измотанного жарой. Несмотря на недуг, сгорбивший его некогда прямую спину, Манфред высок. У него огромная голова и тело под стать. И блестящие влагой карие глаза, скрывающиеся за линзами очков в тончайшей оправе. У Роммеля очень высокий лоб, над которым редеют распушенные щеткой пепельные волосы с густой проседью, – должно быть, Лизелотте поколдовала над мужем перед нашим приходом. Я также отметила про себя, что у сына гитлеровского любимца безупречно прямой нос, крупные уши, пожалуй, чуть великоватые ему, и безвольно отвисшие уголки губ – болезнь поселила на его лице гримасу Пьеро. Но стоило ему напрячь мышцы лица в попытке передать какую-либо эмоцию, как он становился по-детски милым и трогательным.
Тяжело дыша, он протянул мне огромную руку с мягкой ладонью. Я пожала ее и тут же обняла его, большого, мягкого и такого беспомощного. Тогда-то я и заметила, что он дрожит от неустойчивости. Вторая рука, которой он опирался на палку, держала вес его тяжелого и непослушного тела. Определенно Манфред не выглядел здоровым человеком, готовым болтать часы напролет, вряд ли он способен был выдержать дольше получаса съемки. Я взглянула на Лизелотте, которая, прочитав сомнение на моем лице, пожала плечами, улыбнулась и предложила нам чай и печенье. Я поблагодарила ее, но отказалась, прагматично посчитав, что лучше начать съемку, ибо чем дальше, тем труднее может быть Манфреду.
– Ну хорошо, – согласилась фрау Роммель, – но чай и печенье я принесу в паузе. Паузы будут необходимы, – добавила она спокойно и дружелюбно.
Раздалось тяжелое долгое кряхтение: приложив титанические усилия, Манфред опустился в огромное кресло, стоящее в самом центре гостиной, и теперь неверной рукой пристраивал свою палку к подлокотнику. Палка с шумом упала, и пока Роммель, рыча от бессилия, начал раскачиваться в кресле, чтобы встать с разгона, я быстро присела, подняла ее и приладила к подлокотнику. Он печально улыбнулся в своей беспомощности – и уголки губ чуть приподнялись. Я взглянула ему в глаза и поняла, что соображает он прекрасно: взгляд был ясный и острый.
Манфред, утопающий в кресле, казался огромной деформированной горой глины. Сочувствие на пару с совестью разъедало меня изнутри, ибо я понимала, каким мукам придется подвергнуть этого человека, не пожелавшего отменить съемку в силу своего уже постоянно плохого самочувствия, но в глубине души я понимала, что не соглашусь по собственной воле остановить съемку…
Пока Сергей втолковывал оператору, какую точку съемки выбрать и на каких крупностях работать, я осматривала первый этаж дома, большую часть которого и занимала эта комната. На стенах висели карты, нарисованные от руки простым карандашом. Кое-где я заметила линии, прочерченные красным, – предполагаемая Роммелем линия наступления.
– Это… его…
– Что? – не поняла я, оглянувшись на Манфреда: я-то думала, он задремал.
– Его… карты…
– Вторая мировая? – уточнила я.
– Не… нет. Первая… я… расскажу…
«Ой, сдается мне, не расскажет. Он вообще не в состоянии рассказывать», – печальной мыслью пронеслось в голове, пока Роммель пытался шумно отдышаться после своих кратких реплик. Мне самой уже стало мучительно тяжело дышать – трудно, когда находящийся рядом человек не может сделать большой глоток воздуха в свое удовольствие и, словно выброшенная на берег рыба, судорожно открывает рот, бесшумно страдая без воды…
Гостиная дома Роммелей была перенасыщена предметами: картинки в разных рамочках, тарелочки, карты на стенах, полки с хаотичными небоскребами дисков, музыкальный центр, две большие китайские вазы, карандашницы, резные чашки из дерева, фарфоровое блюдо, календарь, брелоки… На полу – стопки толстых потрепанных книг с отогнутыми мягкими обложками, справочники – исторические и юридические.